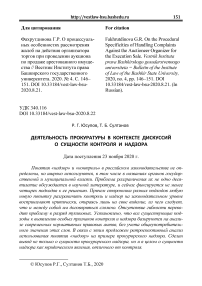Деятельность прокуратуры в контексте дискуссий о сущности контроля и надзора
Автор: Юсупов Рахимьян Галимьянович, Султанов Тимур Булатович
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Административное право, административный процесс
Статья в выпуске: 4 (8), 2020 года.
Бесплатный доступ
Понятия «надзор» и «контроль» в российском законодательстве не определены, но широко используются, в том числе в названиях органов государственной и муниципальной власти. Проблема разграничения их не одно десятилетие обсуждается в научной литературе, и сейчас фиксируется не менее четырех подходов к ее решению. Причем сторонники разных подходов любую новую попытку разграничить контроль и надзор на законодательном уровне воспринимают критически, опираясь лишь на свое видение, из чего следует, что и между собой им договориться сложно. Отсутствие гибкости переводит проблему в разряд тупиковых. Установлено, что все существующие подходы к выявлению особых признаков контроля и надзора базируются на анализе современных нормативных правовых актов, без учета общеупотребительного значения этих слов. В связи с этим предложен ретроспективный анализ использования понятия «надзор» на примере прокурорского надзора. Сделан вывод не только о сущности прокурорского надзора, но и в целом о сущности надзора как юридического явления, отличного от контроля.
Контроль, надзор, прокуратура, прокурорский надзор, прокурор, фискал
Короткий адрес: https://sciup.org/142233529
IDR: 142233529 | УДК: 340.116
Текст научной статьи Деятельность прокуратуры в контексте дискуссий о сущности контроля и надзора
Понятия «контроль» и «надзор», в общеупотребительном значении достаточно близкие по смыслу, на протяжении многих лет являются предме‐ том споров правоведов, поскольку в законодательстве они используются широко, а их определений ни в одном официальном документе нет.
Пожалуй, начать рассуждения логично с уточнения общеупотреби‐ тельного значения этих слов. Так, в словаре С.И. Ожегова контроль толкуется как проверка или наблюдение с целью проверки, а надзор – как наблюде‐ ние с целью присмотра, проверки [1, с. 256, 332]. Большой разницы, конеч‐ но, нет. Но если внимательно отнестись к трактовкам, получается, что функ‐ ции надзора ограничиваются наблюдением, а контроль подразумевает по‐ мимо наблюдения еще и некие иные формы проверки, о которых в словаре ничего не сказано.
Применительно к деятельности прокуратуры используется термин «прокурорский надзор», что обусловлено положением Конституции РФ, со‐ гласно которому надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением фе‐ деральных законов, а также за соблюдением прав и свобод человека и гражданина уполномочена осуществлять Прокуратура РФ (ст. 129). Ввиду отсутствия законодательного определения надзора и контроля и наличия обще‐ употребительного их толкования резонным становится вопрос: можно ли считать, что прокуратура ничего не контролирует?
Мнений по этому поводу высказано много. Одна из позиций заключается в том, чтобы признать надзорные полномочия только за прокуратурой, а полномочия других проверяющих органов считать контрольными (или контролирующими) [2, с. 199]. Но в Российской Федерации существуют и иные органы, которые, согласно действующему законодательству, заняты надзором, например Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Распространено также утверждение, что надзор - это «надведомственный, специализированный, систематический контроль» [3, с. 437], который осуществляется в отношении неподчиненных органов [4, с. 30]. К прокуратуре этот признак имеет прямое отношение, но в законах можно встретить понятия, которые связь надзора с «надведомственностью» не подтверждают. Так, в Федеральном законе «О пожарной безопасности» используется и даже определено понятие «ведомственный пожарный надзор» (ст. 1).
Варианты различения исследуемых понятий систематизированы. Например, на сайте Минэкономразвития они представлены следующим образом:
-
- вариант 1 - контроль и надзор - синонимы;
-
- вариант 2 - контроль осуществляется внутри системы органов и организаций, а надзор - в отношении неподчиненных субъектов;
-
- вариант 3 - надзор осуществляется только прокуратурой, а контроль - остальными проверяющими органами;
-
- вариант 4 - надзор является одной из функций контроля наряду с разрешительной, лицензионной и учетной деятельностью, экспертизой и статистикой.
Эта информация содержится в концепции федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации». Составлялся он на этапе подготовки проекта указанного закона (2014), и в нем был представлен очередной вариант различения контроля и надзора - «по режимам регулирования, предусматривающим различия в формах проведения мероприятий, по объему прав и обязанностей подконтрольных (поднадзорных) субъектов и контрольно-надзорных органов, а также по набору мер реагирования на нарушения». Уточнения также были приведены. Например, предполагалось, что у контроля и надзора совпадают две формы осуществления деятельности: проверка и мониторинг, только контроль подразумевает ведение реестров разрешительной документации и сбор регулярной отчетности. Сходство в характере воздействия на подконтрольные субъекты заключается в праве на административ‐ ные санкции. Контроль же имеет более широкий спектр инструментов воздействия, включая отмену разрешений, запрет на совершение сделок и пр.
Этот документ вызвал критику, причем не только ученых. В заключении Торгово-промышленной палаты читаем: «Высказывались обоснованные мнения относительно того, что надзор является исключительной прерогативой органов прокуратуры как надзорного ведомства. Однако законопроект вновь "смешал" контроль и надзор, так и не дав четкого ответа на вопрос об их отличии, так как большая часть их признаков является универсальной». По мнению Л.А. Гречиной и Е.А. Закружной, поскольку «единым критерием, по которому эти виды деятельности отличаются, является принцип подчиненности», предлагаемые в концепции отличительные признаки контроля и надзора «не позволяют отграничить эти явления друг от друга» [5, с. 65].
Критические замечания, как видим, обусловлены исходными позициями авторов. То есть версия Минэкономразвития раскритикована не потому, что она нелогична, а потому что авторы критических замечаний убежденно поддерживают один из ранее сформировавшихся вариантов различе‐ ния, причем не один и тот же, а каждый поддерживает свой. Соответственно, между собой критики тоже не договорятся, и проблема различения контроля и надзора рискует остаться всего лишь предметом дискуссий. Хотя порядок в вопросе навести надо, поскольку следствием нечеткости представлений о ключевых терминах является некорректность законодательства, регулирующего отношения в контрольно-надзорной сфере.
В качестве примера рассмотрим положение Федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно которому в России существует государственный, производственный, муниципальный и общественный контроль в области охраны окружающей среды (ст. 64). Если придерживаться варианта 2, базирующегося на принципе подчиненности/неподчиненности субъектов, то государственный, муниципальный и общественный виды контроля в области охраны окружающей среды, будучи деятельностью «надведомственной», должны, по идее, называться надзором, а если варианта 3, делегировавшего надзорные полномочия исключительно прокуратуре, то производственного, муниципального и общественного надзора быть не может в принципе.
Неразбериха приводит к тому, что в литературе периодически высказываются не менее противоречивые претензии в адрес законодателя. Так, В.П. Беляев, сторонник варианта 3, считает, что «законодатель ... не стремится развести эти понятия, смешивает их, употребляет как синонимы» [2, с. 200]. Нам представляется, что это замечание верно лишь отчасти, потому что законодатель применительно к разным правовым областям поступает по-разному. В одних случаях разница между терминами действительно не прослеживается. Например, в Федеральном законе «О пожарной безопасности» определено понятие «ведомственный пожарный надзор» (ст. 1) и установлено, что этот орган уполномочен осуществлять контроль за обеспечением пожарной безопасности на подведомственных объектах (ст. 12). Этот пример подтверждает слова В.П. Беляева: разницу между надзором и контролем законодатель может не учесть.
Однако другие примеры демонстрируют, что разницу законодатель все-таки видит. В частности, Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ‐ ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» содержит определения государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Получается, законодатель не только видит разницу, но и поддерживает вариант 4 (надзор - одна из функций контроля). Но выводы делать еще рано, потому что в инфраструктуре исполнительной власти существует, например, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая уполномочена осуществлять «функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации».
Можно предположить, что проблема объясняется довольно просто: нормативные правовые акты пишут разные люди с разными представлениями о контроле и надзоре. Важно и то, что есть области права, в которых вопрос разграничения контроля и надзора закрыт, и этот опыт полезно учесть.
Интересные выводы на примере конституционного контроля/надзора сделал А.В. Трухачев. Он установил, что в советский период функцию по проверке соответствия нормативных правовых актов действующему Основ‐ ному закону удерживали за собой высшие органы власти. Первый такой орган появился на волне демократических преобразований времен перестрой‐ ки (в 1988 г. началась реформа всей политической системы, которая перестала отвечать реалиям общественно‐политического развития государства [6, с. 83]). В 1989 г. был создан Комитет конституционного надзора СССР. Он имел право устанавливать факты неконституционности положений законов и иных актов, но окончательных решений не принимал, а направлял заключения Съезду народных депутатов СССР [7, с. 708-709]. В РСФСР, а затем и в Российской Федерации был учрежден Конституционный Суд - для осуществления конституционного контроля. На практике это означало и означает, что орган судебного конституционного контроля вправе не только устанав‐ ливать факты неконституционности законов и иных актов, но и признавать такие акты недействующими [8, с. 104-105]. И хотя и контроль, и надзор нацелены на утверждение законности [9, с. 27; 10, с. 230], на основании приве- денных аргументов был сделан вывод, что дискуссии о разнице между ними можно не продолжать – «слова, близкие по смыслу, четко разделились не по целям, а по практике распределения полномочий» [8, с. 105].
Поскольку нас интересует термин «прокурорский надзор», попробуем поискать ответы на свои вопросы в изданиях по истории прокуратуры.
Фундамент прокуратуры в ходе реформирования государственного управления начал закладывать Петр I. В 1711 г. он ввел должность тайного фискала при Сенате для наблюдения за правительственным аппаратом и доносительства в случае обнаружения нарушений. В этот же период при Се‐ нате появился новый институт во главе с обер‐фискалом для осуществления тайного надзора на местах через систему фискалов. Помимо наблюдения и доносительства фискалы имели право на обвинение преступника в суде [22, с. 12]. В литературе отмечается, что официальное закрепление фискалов при Сенате было условным, поскольку они присягали царю и были его доверен‐ ными лицами [12, с. 12]. В 1722 г. Петр I заменил фискалитет на новый госу‐ дарственно‐правовой институт – прокуратуру во главе с генерал‐прокуро‐ ром, которого император назначал лично и называл «око наше». Генерал‐ прокурору и обер‐прокурору надлежало «быти» при Сенате, прокурорам – при коллегиях. Прокуроры, в отличие от фискалов, действовали открыто. Они были уполномочены «регистрировать нарушения законов» и предупре‐ ждать их. Выявленным нарушителям они могли предложить устранить на‐ рушения, а могли опротестовать незаконные решения, а также донести о беззакониях генерал‐прокурору [11, с. 13–14]. Как видим, прокуратура фор‐ мировалась как орган, уполномоченный выявлять нарушения законов, но не принимать какие‐либо окончательные решения по их устранению.
В разное время содержание деятельности прокуратуры менялось. Так, при Екатерине II прокурор, помимо прочего, наблюдал за содержанием аре‐ стантов, охранял свободы частных лиц, изучал определения всех присутст‐ венных мест и пр. А при Александре I мнение прокурора не учитывалось ни по одному (даже административному) делу. Зато при Александре II прокура‐ тура из надзорного органа превратилась в основном в орган уголовного пре‐ следования. В частности, после предварительного следствия прокурор давал заключение, изложенное в форме обвинительного акта. Это позволило ут‐ верждать, что прокурор в этот период фактически совмещал надзор за за‐ конностью следствия и управление следствием. При Александре III, когда ак‐ тивизировалась борьба против революционно настроенных масс, полномо‐ чия прокуратуры были расширены еще больше, ее стали воспринимать как карательный орган [12, с. 15–16, 19].
Специфика судопроизводства и деятельности прокуратуры в предше‐ ствующий Октябрьской революции период привела к тому, что пришедшие к власти большевики упразднили и институт судебных следователей, и прокуратуру, предусмотрев для принятия их дел избрание «особых комиссаров в местных Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Лишь в 1922 г. было принято Положение о прокурорском надзоре в РСФСР. Причем В.И. Ленин настоял на том, чтобы прокуратура занималась только одним -следила за установлением единообразного понимания законов и передава‐ ла дела в суд. В 1933 г. превращение прокуратуры в единую самостоятельную систему было завершено. Новый Закон о прокуратуре СССР, принятый в 1979 г., закрепил за ней не только надзорные полномочия, но и право координировать деятельность правоохранительных органов. По этому поводу Р.С. Абдулин заключил, что прокуратура помимо надзорных функций стала выполнять функции управленческие [12, с. 22-23, 28].
Таким образом, исторический обзор в исследуемом вопросе позволил сделать тот же вывод, что и в вопросе разграничения конституционного контроля и конституционного надзора. Надзор - это наблюдение, выявление нарушений законодательства в поднадзорном пространстве, не более того. При этом орган, уполномоченный осуществлять надзор, может быть уполномочен выполнять не только надзорные, но и иные функции.
Понятие «прокурорский надзор» в данном контексте выглядит логично. Во-первых, оно зафиксировано в Конституции РФ, а сама функция закреплена за Прокуратурой РФ. Во-вторых, согласно Федеральному закону «О Прокуратуре Российской Федерации» Прокуратура РФ - это система органов, осуществляющих, прежде всего, надзорные функции: надзор за исполнением законов органами государственной и муниципальной власти, в том числе органами контроля, за соблюдением ими же прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, судебными приставами, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу и пр. Вместе с тем в обязанности Прокуратуры РФ входят уголовное преследование в пределах ее полномочий, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно‐ стью и даже возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административных расследований в пределах ее с полномочий. Тот факт, что Прокуратура РФ вправе выполнять эти функции, еще не повод называть их надзорными. Предлагаем коллегам согласиться с тем, что возбуждение дел об административных правонарушениях не имеет ничего об‐ щего с надзором.
Общий наш вывод таков: прокурорский надзор - явление, которое не может подвергаться пересмотру. Другое дело, что прокуратуру в российских реалиях нельзя считать органом в чистом виде надзорным. Пора перестать присваивать надзору свойства, ему не присущие. Считаем, что дискуссии во‐ круг надзора и контроля вызваны хаотичным использованием этих понятий в законодательстве. Если прекратить опираться на законодательство, угады‐ вая смысл слов, в нем используемых, но не определенных, можно наконец и само законодательство привести в порядок.
Список литературы Деятельность прокуратуры в контексте дискуссий о сущности контроля и надзора
- Словарь русского языка / сост. С.И. Ожегов. М. : Госиздат иностр. И национальн. словарей, 1953. 848 с.
- Беляев В.П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 4 (77). С. 199–207.
- Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное пра-во : учебник. М. : Норма, 2005. 800 с.
- Назаров С.Н. Общая теория надзорной деятельности. М. : Книга сервис, 2007. 240 с.
- Гречина Л.А., Закружная Е.А. Дискуссионные вопросы проекта федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации» // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 1. С. 63–75.
- Кузнецов И.А. Государственно‐правовое развитие Российской Федерации: этапы, проблемы, особенности // Правовое государство: теория и практика. 2019. № 3 (57). С. 80–85.
- Нарутто С.В. Конституционный судебный процесс: понятие, признаки, особенности // Право и политика. 2013. № 5 (161). С. 708–713.
- Трухачев А.В. О понятиях «конституционный контроль» и «конституционный надзор» // Системная трансформация – основа устойчивого инновационного развития : сб. ст. Междунар. науч.‐практ. конф. Уфа : Аэтерна, 2020. С. 103–106.
- Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. М. : Альфа‐М, 2005. 352 с.
- Кургузиков М.С. К вопросу о понятиях «конституционный контроль» и «конституционный надзор» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградск. ин‐та бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 229–232.
- Абдулин Р.С. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Курган : Курганск. гос. ун‐т, 2016. 220 с.
- Пономаренко С.В. Основные этапы истории развития российской прокуратуры (исторический аспект) : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008. 30 с.