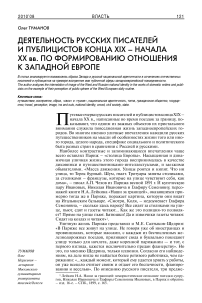Деятельность русских писателей и публицистов конца XIX - начала XX вв. по формированию отношения к Западной Европе
Автор: Туманов Олег Нерусевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется взаимосвязь образа Запада и русской национальной идентичности в сочинениях отечественных писателей и публицистов на примере восприятия ими публичной сферы западноевропейской повседневности.
Путешествие, восприятие, образ, "свои" и "чужие", национальная идентичность, толпа, гражданское общество, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/170165460
IDR: 170165460
Текст научной статьи Деятельность русских писателей и публицистов конца XIX - начала XX вв. по формированию отношения к Западной Европе
П
утевые очерки русских писателей и публицистов конца XIX – начала XX в., написанные во время поездок за границу, показывают, что одним из важных объектов их пристального внимания служила повседневная жизнь западноевропейских городов. Во многом именно уличные впечатления наводили русских путешественников на мысли об особенностях жизни того или иного города, целого народа, специфике социального и политического быта разных стран в сравнении с Россией и русскими.
Наиболее контрастные и запоминающиеся впечатления чаще всего оставлял Париж – «столица Европы». Насыщенная и динамичная уличная жизнь этого города воспринималась в качестве диковинки и путешественниками-интеллектуалами, и заезжими обывателями. «Масса движения. Улицы роятся и кипят. Что ни улица, то Терек бурный. Шум, гвалт. Тротуары заняты столиками, за столиками – французы, которые на улице чувствуют себя, как дома», – писал А.П. Чехов из Парижа весной 1891 г. И купеческую пару Ивановых, Николая Ивановича и Глафиру Семеновну, персонажей книги Н.А. Лейкина «Наши за границей», оказавшихся примерно тогда же в Париже, поражает картина, которую они видят на Итальянском бульваре. «Смотри, Коля, – недоумевает Глафира Семеновна, – сколько здесь народу! Все сидят за столиками на улице, пьют, едят и газеты читают… Как же это полиция-то позволяет? Прямо на улице пьют. Батюшки! Да и извозчики газеты читают. Сидят на козлах и читают»1.
ТУМАНОВ
О л ег
Нерусевич – аспирант
Уличную жизнь Парижа представил и М.Е. Салтыков-Щедрин: «В Париже все живут на улице. Не говоря уже об иностранцах и провинциалах, которые массами, с каждым из бесчисленных железнодорожных поездов, приливают сюда и буквально покидают улицу только для ночлега, даже коренной парижанин — и тот, с первого взгляда, кажется исключительно предан фланерству». Но это, по мнению Щедрина, только иллюзия. Согласно его наблюдениям, на деле нигде не найдется более ретивого работника, чем парижанин: «…каждый момент, который ему удается урвать у работы, он уже всецело считает своим и отдает его беспечности, фланиро ванию и вес елью». По описанию русского писателя, три предме-
1 Лейкин Н.А. Наши за границей: юмористическое описание поездки супругов, Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых, в Париж и обратно. – изд. 16-е. – СПб., 1899, с. 165.
та проходят через всю жизнь парижского работника: «работа, веселье и, от времени до времени... революция. Все это он умеет делать чрезвычайно ловко, скоро, горячо, но отнюдь не бестолково. Оттого-то, быть может, и кажется приезжему иностранцу… что в Париже вот-вот сейчас что-то начнется». Ничего подобного парижскому вечному гулу, напоминающему пчелиный улей, Щедрину не удалось наблюдать в Берлине, где его окружало «одно беспрерывное и молчаливое маятное движение – и ничего больше». Зато берлинские впечатления напомнили ему родной Петербург, Невский проспект»1.
По своей притягательности для русских с Парижем могли поспорить разве что итальянские города. Гораздо меньше в сравнении с Францией и Италией русских путешественников привлекала Великобритания, где можно было «прожить несколько месяцев, не услышав русской речи на улице»2. Зато «неметчины» (в широком смысле – Германии и Австро-Венгрии) русскому, отправлявшемуся из России в Западную Европу «посуху», было просто не миновать. Может быть, именно поэтому в отзывах русских путешественников о Берлине, как и вообще о немецких землях и городах, заметны нотки снисходительности и мимолетности: «Что сказать нового о биллиардном поле, называемом Пруссиею? Зимою оно кажется еще скучнее, а Берлин, будь Германская империя в десять раз длиннее и шире, останется тем же невозможно скучным и несносным Берлином, как и прежде»3.
Много странствовавший по Европе писатель Вас. И. Немирович-Данченко отмечал, что «площадь и улица – повсюду являются ареною грубых инстинктов», хотя их проявления разнятся от города к городу, от страны к стране. Общее впечатление от германской столицы Немирович выразил лапидарным определением: «Берлин – казарма», отметив своеобразную гармонию, сложившуюся в этом городе между военными и гражданским населением. «Нет часа, нет минуты, чтобы на одной из центральных улиц не проходил тот или другой полк со всевозможной помпой и треском». Но при этом, по наблюдениям русского путешественника, за полком марширует сто-двести «добровольцев военной муштры». И это не юноши, не подростки, а зрелые «молодцы» тридцати-сорока лет. Зарисованную Немировичем с берлинской натуры картину «вечной игры взрослого люда в солдатики» дополняли конные жандармы, стоящие недвижно на улицах, «как монументы»4.
Обобщенно-отрицательный отзыв о Западе вынес из своих поездок в Берлин и Париж православный публицист и богослов Алексей Введенский. Прогулки по улицам и площадям обеих европейских столиц позволили ему уподобить духовный мир западного человека тамошнему градоустройству: «В душе современного западного человека, как и в западном городе, так сказать, нет центра. Без Кремля, без святыни, без кремлевских соборов и дворцов, западный город с своими однообразными исполинскими зданиями является повсюду одинаково значительным или пожалуй, смотря по взгляду, повсюду одинаково незначительным – как слабо дифференцированный животный организм, у которого каждая часть одинаково способна к изолированной жизни; так точно и в душе современного западного человека, загасившего священный огонь идеала, каждая часть, каждое движение, каждая страсть является одинаково значительною, одинаково законною, требующею одинакового удовлетворения, – ничего центрального, ничего объединяющего раздробленные силы духа, ничего вдохновляющего на подвиг борьбы со злом!»5
Оригинальный тип туриста-интеллектуала, путешественника-мыслителя олицетворял собой В.В. Розанов. То, что Щедрин, ругая Берлин, приписывал только Парижу, Розанову, во Франции никогда не бывавшему, открылось как раз в германской столице. «В Берлине чувствуешь, – писал Розанов вопреки Щедрину, но вместе с тем развивая его мысль применительно к другому городу, – что улица есть продолжение дома, что это есть громадный коллективный дом, “свой” для каждого, а не “чужое” что-то, как улица для всех нас, русских». Розанов акцентировал свои симпатии к бытовому устройству немцев. В то же время он выразил традиционную русскую насмешливость над немецким благополучием и довольством: «Не священная нация немцы, далеко им до великих народов древности. Но что они сумели сделать из этого посредственного материала своей души через посредство работы, упорного труда, бесконечной добросовестности и наивной, героической и святой веры в прогресс, в вечную возможность вечного совершенствования!.. Если бы нам немножко немецкой нравственной серьезности, не патетической, но ровной и спокойной, – какая бы нация вышла на востоке Европы, какая судьба!»1 В заключительной фразе этого зародившегося на берлинских улицах монолога звучит непреодолимая двойственность в отношении как самого Розанова, так и многих его соотечественников к западной повседневности, а вместе с тем – и к российской жизни.
В основном в записках русских писателей и публицистов образ Западной Европы ограничивался описанием личных впечатлений. Однако в конце ХIХ в. проявились попытки глубокого анализа в отношении западноевропейского влияния на российское общество. Примером могут служить размышления великого русского историка В.О. Ключевского. Как известно, Ключевский оставил не только научное, но значительное публицистическое и литературное наследие. Вопрос об отношении России к Западной Европе, западноевропейского влияния на русское общество поставлен исследователем на новую методологическую основу: с нравственной (как у Н.М. Карамзина) – на социологическую и философско-историческую .
Изучение западноевропейского влияния на Россию определялось Ключевским как «капитальный вопрос» общественной жизни страны. Суть рассуждений исследователя в данном теоретическом вопросе сводится к следующему. России пришлось жить общей жизнью с Западной Европой: общение с ней – факт исторической необ- ходимости, поскольку западная культура достигла высокого уровня развития. Но возникает вопрос: нужно ли при этом не западноевропейскому народу копировать формы западноевропейского культурного общежития и для этого повторять все процессы и переломы – политические, социальные, умственные и нравственные, какие пережила и переживает Западная Европа, вырабатывая свою культуру? Жить общей жизнью, значит ли жить одной жизнью? Вот в чем вопрос, на который одни отвечают утвердительно, другие – отрицательно. Процесс восприятия образцов западноевропейской цивилизации связан с их адаптацией в российских условиях, на российской почве.
В историософской интерпретации Ключевским процесса освоения русским обществом элементов западной цивилизации выделяются несколько характерных черт. В способе освоения определяются, по терминологии Ключевского, три неправильности .
-
1. Общечеловеческие элементы западной цивилизации осваивались не только в порядке, обратном их причинной связи и исторической последовательности, но и с напряжением и успехом, обратно пропорциональным трудности и важности этих элементов: сначала (и успешнее всего) заимствовались материальные удобства, потом (с меньшим успехом) – навыки мастерства, после всего (причем с наименьшим желанием и результатом) – знания.
-
2. Наряду с общечеловеческими элементами осваивались также местные национальные, притом в разное время усиленно заимствовались различные элементы: в XVII в. и при Петре – преимущественно технические средства и удобства; после Петра и до конца XVIII в. – преимущественно увеселения, украшения, обычаи светского общежития, нравы, вкусы, чувства; в XIX в. – понятия, знания, законы, учреждения, убеждения.
-
3. Неоднородность процесса освоения различных элементов западной цивилизации между разными слоями русского общества. Высшие слои общества, наиболее зажиточные и заинтересованные, брали на свою долю преимущественно плоды просвещения, а также передовые, наиболее подготовленные для потребления результаты цивилизации. Ученые-разночинцы и дворяне-вольтерьянцы второй половины XVIII в. про-
- явили склонность к философии и искусству. Элита общества стремилась стать в основном потребителем плодов цивилизации, с тем чтобы другие были только ее производителями. Цвет общества хотел сделать своей специальной образовательной задачей потребление, эстетику образования, предоставив средним классам труд, технику просвещения. «Нам – гостиная цивилизации, вам – кухня», – говорил просвещенный дворянин XVIII в. ученому-разночинцу.
Из сформулированных Ключевским «неправильностей» родились два «неудобства», ощутимо сказывавшихся на российской духовной жизни в XVIII и XIX столетиях.
-
1. Заимствуемая цивилизация оставалась без необходимой адаптации к российским условиям и традициям, не вышла за рамки весьма ограниченного общественного круга, имевшего средства заимствовать элементы западной жизни. В результате, с одной стороны, поддерживалась зависимость от Западной Европы, заставлявшая обновлять заимствуемый культурный запас все новыми и новыми заимствованиями, не делая в него собственных вкладов. С другой – подпитывалось духовное бездействие, приучая искать готовое без вложения собственного труда, то есть жить чужим умом. Перечисленное, по Ключевскому, явилось следствием первой и третьей «неправильностей», из-за чего надолго установилось неправильное
-
2. Вторая из указанных выше «неправильностей» произвела раскол в преемственности духовной жизни русского общества, или разрыв между древней и новой Россией, как было принято выражаться. Усваивая механически и бездумно чужой быт и чужой духовный опыт, одни просто отказывались от собственных традиций как тяжелого пережитка темной старины, не развивая и не улучшая его в меру новых потребностей и новых образовательных средств; другие, не решившись на такой перелом, с адекватной враждой отнеслись ко всему заимствуемому и еще крепче ухватились за отживавшую старину, тоже не обновляя и не улучшая ее, поддерживая обветшалые обычаи и предания. Так из древней и новой России вышли не два смежных периода отечественной истории, а два враждебных уклада и направления общественной жизни, разделивших русское общество на отдельные части и обративших их на борьбу друг с другом, вместо того чтобы заставить их дружно бороться с трудностями своего положения. Старое получило значение национального, самобытного, русского, новое – значение иноземного, чужого, немецкого 1 .
отношение к западноевропейской цивилизации.