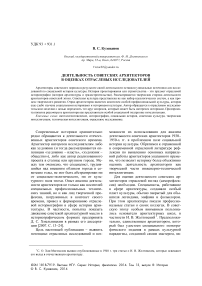Деятельность советских архитекторов в оценках отраслевых исследователей
Автор: Кузеванов Виктор Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Архитекторы советского периода в результате своей деятельности оставили уникальные источники для исследований по социальной истории культуры. История проектирования или строительства - это предмет отраслевой историографии (история архитектуры и градостроительства). Рассматривается творческая сторона деятельности архитекторов советской эпохи. Советская культура представлена не как набор идеологических систем, а как процесс творческого развития. Отряд архитекторов является носителем особой профессиональной культуры, которая еще слабо изучена социальными историками и историками культуры. Автор обращается к отраслевым исследовательским моделям с целью определить тот круг вопросов, который может быть интересен историкам. Предпринята попытка рассмотреть архитектора как представителя особой социальной подгруппы интеллигенции.
Интеллигентоведение, историография, социальная история, советская культура, творческая интеллигенция, техническая интеллигенция, отраслевое исследование
Короткий адрес: https://sciup.org/147219165
IDR: 147219165 | УДК: 93
Текст научной статьи Деятельность советских архитекторов в оценках отраслевых исследователей
Современные историки сравнительно редко обращаются к деятельности отечественных архитекторов советского времени. Архитектор интересен исследователям либо как художник (и тогда рассматриваются оппозиции «художник – власть», «художник – общество»), либо как автор реализованного проекта в столице или крупном городе. Между тем очевидно, что специалист, трудившийся над внешним обликом города в советские годы, не мог быть абстрагирован ни от социально-политического, ни от культурного поля эпохи. Опыт анализа деятельности архитекторов не только как носителей специальных профессиональных технических знаний, но и как лиц творческой профессии, погруженных в контекст своего времени, привел к формированию отраслевой историографии в сфере истории архитектуры. В частности, попытка показать движение советской архитектурной мысли в историографическом формате предпринята Д. С. Хмельницким в рамках его диссертации [2007. С. 13–24].
Цель настоящей публикации – выявить потенциал отраслевых исследований и воз- можности их использования для анализа деятельности советских архитекторов 1930– 1950-х гг. в проблемном поле социальной истории культуры. Обратимся к отраженной в современной отраслевой литературе рефлексии по выявлению основных направлений работы архитекторов указанного времени, что позволит историку более объективно оценить деятельность архитекторов как творческой части инженерно-технической интеллигенции.
Для оценки деятельности советских архитекторов отраслевой взгляд (саморефлек-сия) необходим. Специалисты, работавшие в сфере архитектуры, создавали особый пласт культуры, обычно закрытый для обывателя легендами, мифами и фольклором. При этом архитекторы писали профессиональные статьи о своих коллегах. В советскую эпоху особым вниманием пользовались основатели архитектурных школ, в частности И. В. Жолтовский 1. Предположительно, единственным архитектором, который был удостоен специального монографического издания в рамках культурной парадигмы, созданной самим мастером, яв- ляется И. А. Фомин. М. А. Минкус (будущий архитектор-высотник) и Н. А. Пекарева издали в начале 1950-х гг. книгу, посвященную своему наставнику [1953].
В современных исследованиях по истории архитектуры личностный момент (творческий мир архитектора) стал одним из приоритетных, но при этом весьма важно изучение институциональных основ архитектурной деятельности. Официально контролируемый процесс институционализации творческих объединений приходится на 1930-е гг. Объединения существовали и ранее, но юридическое оформление их статусов пришлось на указанное десятилетие. Постановление ЦК ВКП(б) от 3 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» дало импульс для создания Союза писателей в 1934 г., конституирование Союза архитекторов состоялось в 1937 г. Содержательно Союз советских архитекторов (ССА) интегрировал в себя приверженцев разных взглядов и направлений, причем разница между направлениями не ощущалась [Паперный, 2006. С. 64].
Советские архитекторы занимали весьма значимое положение в мировом профессиональном сообществе своего времени. В постсоветский период появилась возможность оценивать более непредвзято характер и формы взаимодействия элитных архитектурных групп СССР и зарубежья. Как отмечают исследователи, советские конструктивисты «были хорошо известны европейским архитекторам, близким к Баухаузу и CIAM (Международным конгрессам современной архитектуры)» [Меерович, Хмельницкий, 2005]. Архитекторы, пользуясь своим авторитетом, часто устраивались в заграничных проектных институтах, когда находились в командировках по обмену опытом, а некоторые из них оставались там работать. Одним из таких эмигрантов был Николай Васильевич Васильев, который успешно освоил американский подход 1930-х гг. и наравне работал с выдающимися архитекторами того времени (см.: [Лисовский, Гашо, 2011]). Н. Васильев занимался также созданием пластики и скульптур городского пространства, что являлось особенностью заокеанских архитекторов (это особая тема, которая требует своего изучения). Похожая судьба была и у Наума Борисовича Габо-Певзнер – лидера мирового художественного авангарда [Сидлина, 2011. С. 122–180]. Наум Габо полностью занял нишу декоратора, оформителя, скульптора и дизайнера (в современном понимании). Габо создал аван- гардную достопримечательность английской столицы – фонтан «Вращение» перед больницей св. Фомы рядом с парламентом. Под руководством С. П. Дягилева занимался разработкой сценических декораций к балету «Кошки» (1927 г.), сценография которого легла в основу нового вида сценического искусства – мюзикла [Там же. С. 100–111].
Такая разнонаправленность и универсальность деятельности была присуща и советским архитекторам, продолжавшим трудиться в стране. В частности, Г. П. Гольц – представитель архитектурного конструктивизма – мастерски совмещал проектную работу с художественно-декоративной деятельностью театрального художника. Архитектор работал с разными режиссерами, точно реализуя их главную идею и добиваясь исторической точности в передаче настроения. Многопрофильность деятельности специалиста-архитектора – это социокультурный феномен, а не результат адаптации архитектора к новым реалиям или использование методов, разделяемых с «новыми» коллегами. Архитекторов отправляли в заграничные командировки, но если одни не возвращались (такие как Н. Габо или Н. Васильев), то другие привозили на Родину опыт коллег для создания своих работ.
Необходимо подчеркнуть, что универсализм архитектора присущ был не каждому, однако лидеры основных направлений и школ обладали такой особенностью. Можно предположить, что архитекторы, чей карьерный путь начинался в 1920-х – начале 1930-х гг. или их основная практическая работа пришлась на это время, продолжали традицию, заложенную эпохой модерна, пока архитектурное сообщество как корпоративная и регулируемая властью структура проходила стадию своего огосударствления.
Архитектурные процессы и события сталинской эпохи современные исследователи оценивают неоднозначно. Профессиональная деятельность сложно поддается интерпретации «изнутри». Метод включенного в среду наблюдателя не работает на исторической дистанции, поэтому исследователи архитектуры обратились к социальному контексту. Актуально упомянуть об особом подходе, который начинал разрабатывать А. Э. Гутнов [1985] и продолжил В. Л. Глазычев. Социолог М. Вильковский называет этот подход «социологией архитектуры». В двухтомном издании «Мир архитектуры» В. Л. Глазычев и А. Э. Гутнов [1990] работают с историческим материалом, являясь практикующими архитекторами. Представители этого направления работали в то время, когда внимание к архитекторам как к части технической интеллигенции существенно изменилось: появилась стратификация, выделяющая архитекторов «бумажной архитектуры» (принцип «архитектура для архитектора») и архитекторов-традиционалистов (они же архитекторы-практики).
В отраслевых исследованиях кроме «социологии архитектуры» сохраняет свое значение и традиционный исторический эволюционный подход, получивший новое звучание в работах акад. А. В. Иконникова. Андрей Владимирович - автор двухтомной монографии «Архитектура ХХ века. Утопии и реальность» [2001; 2002]. В ней он встраивает интеллектуальную деятельность архитектора во всеобщий исторический процесс. Особое внимание уделено сугубо историческим изменениям, которые происходили в архитекторской среде. Такие интеллектуальные процессы либо объективировались в проекты или в сооружения, либо оставались «утопией».
В названных выше двух академических исследовательских моделях не находится должного места для оценки советской архитектурной культуры, которая формировалась не только самими архитекторами. Архитекторы советской эпохи не всегда были единственными авторами своих проектов. Интеллектуальная система предполагала наличие и влияние на их деятельность социального заказа и организации авторских идей согласно политической и культурной ситуации. Между тем традиционная отраслевая исследовательская модель не адаптирована к решению проблем, связанных с социально-художественной упорядоченностью деятельности архитекторов. Следует отметить, что и сами историки до недавнего времени подходили достаточно одномерно к творчеству представителей данной корпорации преимущественно с позиций их изучения как группы в составе инженерно-технической интеллигенции, не рассматривая социокультурные составляющие архитектурного творчества.
Современные отраслевые исследователи приняли условную практику дифференциации постреволюционных архитекторов на авангардистов и последователей авангарда. Такая традиция была заложена ученым, который первый обратил внимание научного сообщества на уникальность социального сообщества архитекторов «советского модернизма», которое получило обозначение
«Авангард», подобно живописному направлению 1920-х гг. Автор данного определения - С. О. Хан-Магомедов. Его работы сегодня остаются базовыми исследованиями в области истории и теории советской архитектуры первой половины ХХ в., поэтому остановимся на ключевых позициях его концепции.
С 1960-х гг. еще начинающим ученым он разрабатывал свою теорию на волне критики предшествующей культурно-социальной парадигмы, что наложило отпечаток на его воззрения. Однако исследователи, опираясь на теорию С. О. Хан-Магомедова, не учитывают этот факт. В отечественной научной традиции период поисков творческой выразительности архитектуры 1920-х - начала 1930-х гг. определяют как «авангард». Об этом свидетельствует серия изданий «Творцы авангарда», осуществленная под научным руководством С. О. Хан-Магомедова. Эта серия - своеобразное продолжение выпуска книг «Мастера архитектуры», изданных в советский период (1969-1990 гг.). Оба цикла изданий не дублируют биографии архитекторов. Серьезное различие заключается в стратификации архитекторов. «Русский авангард» включает в себя биографию советских (признанных и не признанных) архитекторов, а «Мастера архитектуры» публиковали биографии официальных, «парадных» архитекторов, включая представителей досоветского периода, современных зарубежных (О. Нимейер, Ш. Э. Ле Корбюзье, К. Танге) мэтров, а также архитекторов «новой» архитектуры (М. А. Минкус, А. В. Щусев). Сходство изданий заключается в особом отношении к рассматриваемой личности советского архитектора. Советские издания подчеркивают значимость через перечень наград и заслуг, а современная серия - через социальные связи архитектора с коллегами. Изменения между историческими периодами и культурные трансформации размыты в описаниях деятельности архитекторов и их судеб: это череда крупных событий и открытий. Такое видение было определено в свое время самими авангардистами. Так, например, М. Я. Гинзбург отмечал: «Как бы ни велика была коллективная или индивидуальная гениальность творца <...> есть причинная зависимость между реальными жизненными факторами и системой художественного мышления человека <...> и именно наличие этой зависимости объясняет и тот характер эволюции искусства <...> и ту необходимость перевоплощения, обуславливающего объективную историче- скую оценку художественного произведения» [1975. С. 279]. Архитектор изолирован своим творчеством, но связан социально с историческим процессом. Уникальна форма осознания творчества. Однако это касается в данном случае только авангарда.
Существует также серия «Кумиры авангарда», основанная С. О. Хан-Магомедовым в 2010 г. Он включил в эту серию творцов, чей творческий путь продолжался до середины ХХ в., без дифференциации на архитектурные школы. Три издания, которые стоят особо в этом ряду, посвящены, как отмечал Селим Омарович, трем «кумирам неоклассики» [Хан-Магомедов, 2011, С. 6]. Монографии «Иван Фомин» [Там же] и «Иван Жолтовский» [Хан-Магомедов, 2010а] были написаны автором, опираясь на периодические издания и материалы Музея архитектуры им. А. В. Щусева. «Алексей Щусев» – это издание воспоминаний брата архитектора – Павла Викторовича Щусева [2011]. В этих трех изданиях упор сделан не на биографические описания, а на реконструкцию первых проектов, которые были воплощены. В воспоминаниях о А. В. Щусеве внимание акцентрировано на дореволюционные и реставрационные работы, практически отсутствует описание сооружений советского периода (главным зданием называется Казанский вокзал, а не Мавзолей, как отмечалось в советской литературе). Масштаб личности измеряется знаковостью работ и проектов. Архитекторы «неоклассики» остаются только как создатели реализованных проектов. В интерпретациях творческих поисков Ивана Фомина С. Хан-Магомедов не останавливается на особом событии в истории культуры (конкурс на проект Дворца Советов в Москве), которое не могло не повлиять на творчество зодчего.
В. Г. Лисовский – доктор искусствоведения и явный приверженец петербургского направления – обращает особое внимание на парадоксальное отсутствие конкурсного проекта основателя «красной дорики» Дворца Советов [Лисовский, 2008. С. 409]. В. Г. Лисовский указывает на состав совета конкурса и списки участников, где отсутствует фамилия именитого мастера. В 1930-е гг. Иван Фомин не был в стороне от участия в организации градостроительных процессов и создавал известные проекты. Владимир Григорьевич подробно разбирает окончательный проект Дворца Советов и приходит к выводу, что он оказывается более эклектичным явлением, чем «фоминский стиль». Важность этого замечания для историка культуры заключается в том, что архитектор, являясь представителем профессиональной группы, может и не быть участником в определении приоритетов развития культурной среды.
Противоречия и условная преемственность соединяют две структуры, которые проходили идентификацию в разных культурно-исторических реалиях. С. О. Хан-Магомедов условно обозначил переход «постконструктивистским» [1996. С. 665], первоначально не учитывая специфику, которая была заложена в термин. Селим Омарович вернулся к этой проблеме в статье, опубликованной в сборнике материалов конференции, посвященной «сталинской архитектуре» [Хан-Магомедов, 2010б]. В своем докладе на конференции он отказался от стилистической привязки. Главным критерием выделения основных направлений для него является наличие творческих концепций создания неповторимости фасадов зданий: пролетарская классика И. А. Фомина, неоре-нессансная школа И. В. Жолтовского, школа Б. М. Иофана [Хан-Магомедов, 2008]. Именно последнее направление автор назвал магистральным. Иофан в отличие от своих соратников вошел в историю советской архитектуры как создатель стиля «одного здания» – Дворца Советов. Он возглавлял совет по строительству главного здания Москвы и участвовал в разработке вариантов для воплощения главного корпуса МГУ. Борис Иофан не стал членом неофициального кружка «архитекторов-высотников», так как его деятельность была ограничена в послевоенный период модернизацией проекта 1930-х гг. Основные работы, которые упоминал ХанМагомедов, ограничиваются 1933–1940 гг., когда воплощались замыслы архитектора. Это период появления «первых симптомов кризиса “сталинского ампира” [1996. С. 667]. Однако Хан-Магомедов отмечал, что «директивные» решения породили новую волну «неоклассицистических настроений» [2010б] в конкурсах 1930-х гг. Таким образом, можно резюмировать, что об устойчивых стилистических системах не приходится говорить. Возможно, привязка к лидерам школ позволит более детально рассмотреть путь развития культуры.
Когда затрагиваются проблемы истории культуры, то современные исследователи неизбежно обращаются к междисциплинарному подходу. Опираясь на методы из разных дисциплин, можно реконструировать реальный и символический контексты историко-культурной среды, в которой работал архитектор. Приведем наиболее значимые работы в рамках интересующего нас предмета исследования.
Б. Гройс – один из авторитетных исследователей советской культуры – указывает на характерные черты и принципы «ницшеанского мышления» в культуре сталинского времени [1992]. Культура 1930-х гг. мыслит себя в двух плоскостях: «аполлоновское» (сверхчеловеческое, сталинское, господство) и «дионисийская жертва» (отвергнутая идея, низверженный мыслящий человек). Продолжая эту линию, можно предположить, что «жертвенность» появляется в 1930-х гг. как в прямом смысле (массовые репрессивные кампании), так и в культурном. Здесь может быть прослежена прямая зависимость между грандиозными масштабами социального переустройства, вызывавшими громадные жертвы и лишения, и осознанием и отражением гигантской борьбы за «светлое будущее» творческой интеллигенцией. Архитектор, как и любой другой представитель культуры, мыслит себя в «мифе» или «утопии» 2, поэтому необходима интеллектуальная реконструкция «внутреннего» мира архитекторов в их взаимодействии с «внешними» социально-политическими мирами. Совершенно очевидно также, что необходим поиск оптимального сочетания в исследовании обоих «миров», чтобы глубже изучить структуру и динамику взаимосвязей архитектурной корпорации и институтов власти.
Какие исследовательские возможности, опираясь на достижения отраслевой литературы, может дать рассмотрение архитектора как представителя особой социальной подгруппы интеллигенции советской эпохи? Описанный с позиций истории архитектуры интеллектуальный контекст деятельности архитектора может служить источником для изучения повседневных социально-профессиональных предпочтений, а также изменений в мировоззренческих установках отдельно взятой личности в рамках конкретной исторической эпохи. «Мир» архитектора интересен присутствием и взаимодействием в нем двух начал (культура и идеология), что дает исследователю шанс на реконструкцию взаимосвязи деятельности архитектора с социокультурным контекстом. Стилистический подход в изучении архитектурного проектирования продолжает акцентироваться на рассмотрении творчества лидера направления или школы. В то же время отраслевые исследования интересны историкам тем, что построены на выявлении и анализе традиций архитектурной мысли и условий ее реализации, что само по себе уже содержит потенциальный заряд исторической рефлексии.
В рассмотренных выше отраслевых исследованиях внимание уделено лидерам архитектурного сообщества, прежде всего столичного. И если в столице социокультурные процессы легче поддаются выявлению и выстраиванию в стройную систему, так как профессиональное сообщество обладает уникальными источниками (воспоминаниями, записями, проектами), которые детально изучались и изучаются, то региональные архитекторские практики остаются мало изученными. Между тем они выражают особенность региональной культуры. Из сибирских отраслевых исследований выделяются труды С. Н. Баландина [1978; 1986], посвященные творчеству новосибирских архитекторов. Это один из немногих плодотворных исследовательских опытов, результат которого необходимо использовать в дальнейшем при изучении истории деятельности сибирских архитекторов. Отметим, что стараниями С. Н. Баландина создан Музей сибирской архитектуры (ныне носящий его имя), где собраны и хранятся уникальные источники для конкретно-исторического изучения деятельности архитекторов 1930–1950-х гг.
Таким образом, имеются реальные возможности использовать отраслевые исследования как исторический источник и реализовать идею, предложенную историографом советской культуры Л. М. Зак еще в начале 1980-х гг. [Рыженко, Назимова, 2003]. Ретроспективный анализ деятельности сибирских архитекторов является актуальным для сравнительного изучения процессов, уже выявленных исследователями на материалах Центра. Региональная социокультурная динамика отличается от столичной. Дальнейшие исследования позволят дать более взвешенные оценки процессов регионализации государственной культурной политики, в том числе в преломлении к жизнедеятельности местного архитектурного сообщества в советскую эпоху.
ACTIVITIES OF SOVIET ARCHITECTS
IN ASSESSMENTS OF BRANCH RESEARCH
Список литературы Деятельность советских архитекторов в оценках отраслевых исследователей
- Баландин С. Н. Новосибирск: история градостроительства 1893-1945 гг. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. 136 с.
- Баландин С. Н. Новосибирск: история градостроительства 1945-1985 гг. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1986. 160 с.
- Гинзбург М. Я. Стиль и эпоха. 1924 // Мастера советской архитектуры об архитектуре. М., 1975. Т. 2. С. 279-299.
- Гройс Б. Ницшеанские темы и мотивы в Сталинской культуре 30-х годов // Бахтинский сборник. М., 1992. Вып. 2. С. 104-126.
- Гутнов А. Э. Мир архитектуры: Язык архитектуры. М.: Молодая гвардия, 1985. 351 с.
- Гутнов А. Э., Глазычев В. Л. Мир архитектуры: Лицо го рода. М.: Молодая гвардия, 1990. 350 с.
- Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. М.: Прогресс-Традиция, 2001. Т. 1. 656 с.; 2002. Т. 2. 672 с.
- Лисовский В. Г. Иван Фомин и метаморфозы русской неоклассики. СПб.: Коло, 2008. 488 с.
- Лисовский В. Г., Гашо Р. М. Николай Васильев. От модерна к модернизму. М.: Коло, 2011. 464 с.
- Меерович М., Хмельницкий Д. Конец утопии - конкурс на Дворец Советов в Москве // Проект-Байкал. 2005. № 5. С. 18-21.
- Минкус М., Пекарева Н. Мастера советской архитектуры. И. А. Фомин. М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1953. 314 с.
- Паперный В. Культура Два. Двадцать пять лет спустя. М.: НЛО, 2006. 408 с.
- Рыженко В. Г., Назимова В. Ш. О возможностях использования отраслевых исследований в современных историко культурологических опытах изучения интеллигенции сибирского города // Культура и интеллигенция России ХХ в. как исследовательская проблема: итоги и перспективы изучения: Тез. докл. науч. конф., посвящ. 85-летию со дня рожд. проф. Л. М. Зак и 70-летию со дня рожд. проф. В. Г. Чуфарова. Екатеринбург, 2003. С. 37-40.
- Сидлина Н. З. Наум Габо. М.: С. Э. Гордеев, 2011. 208 с.
- Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. М.: Стройиздат, 1996. Т. 1. 709 с.
- Хан-Магомедов С. О. Сталинский ампир. Проблемы, течения, мастера // Academia. Архитектура и строительство. 2008. № 1. С. 25-35.
- Хан-Магомедов С. О. Иван Жолтовский. М.: С. Э. Горде ев, 2010а. 352 с.
- Хан-Магомедов С. О. «Сталинский ампир». Проблемы, течения, мастера // Архитектура сталинской эпохи. Опыты исторического осмысления. М., 2010б. С. 10-25.
- Хан-Магомедов С. О. Иван Фомин. М.: С. Э. Гордеев, 2011. 335 с.
- Хмельницкий Д. Архитектура Сталина. Психология и стиль. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 560 с.
- Щусев П. В. Страницы из жизни академика А. В. Щусева. М.: С. Э. Гордеев, 2011. 352 с.