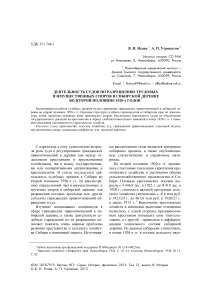Деятельность судов по разрешению трудовых и имущественных споров в сибирской деревне во второй половине 1920-х годов
Автор: Исаев Виктор Иванович, Угроватов Алексей Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается работа судебных органов по регулированию гражданских правоотношений в сибирской деревне во второй половине 1920-х гг. Показана структура судебного производства в Сибирском крае по гражданским делам, выделены основные виды гражданских споров. Рассмотрена деятельность судов по обеспечению государственного давления на крестьянство в период хлебозаготовительных кампаний в конце 1920-х гг. с помощью взыскания задолженности с крестьянских хозяйств.
Крестьянство, сельское хозяйство, суд, гражданские правоотношения, классовый подход, имущественные споры, социальные конфликты, нэп, "великий перелом"
Короткий адрес: https://sciup.org/147218921
IDR: 147218921 | УДК: 351.746.1
Текст научной статьи Деятельность судов по разрешению трудовых и имущественных споров в сибирской деревне во второй половине 1920-х годов
С переходом к нэпу существенно возросла роль суда в регулировании гражданских правоотношений в деревне как между отдельными крестьянами и крестьянскими хозяйствами, так и между государственными или кооперативными организациями и крестьянством. В статье исследуется деятельность судебных органов в Сибири во второй половине 1920-х гг. по рассмотрению определенной части имущественных и трудовых споров в сибирской деревне, для разрешения которых крестьяне или другие субъекты гражданских правоотношений обращались в суд.
Изучение возникавших конфликтов в сфере гражданских правоотношений в сибирской деревне, а также деятельности судебных учреждений по их разрешению позволяет показать очень важные проблемы развития крестьянства и сельского хозяйства Сибири в названный период. Источника- ми рассмотрения темы являются материалы сибирских архивов, а также опубликованные статистические и справочные материалы.
Во второй половине 1920-х гг. проявились отчетливые тенденции укрепления крестьянского хозяйства и увеличения объема сельскохозяйственного производства в Сибири. Площадь крестьянских посевов выросла с 4 446,9 дес. в 1922 г. до 8 410 дес. в 1928 г; стоимость валовой продукции сельского хозяйства увеличилась с 416 млн руб. в 1923/24 г. до 601,6 млн руб. в 1926/27 г. в ценах 1913 г. 1 Вовлечение крестьянских хозяйств в нэповские рыночные отношения позволяло, с одной стороны, предприимчивым крестьянам повышать свое благосостояние, а с другой – приводило к дифференциации социального состава сибирской деревни. По данным сибирских статистиков, в конце 1920-х гг. в составе сельского насе-
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-01-00224а).
ления батрачество составляло 9,8 %, беднота – 20,4, середняки – 49,9, зажиточные – 15,9, кулаки – 3,7 % 2.
Интенсивное развитие рыночных отношений в сибирской деревне порождало значительное количество имущественных споров и трудовых конфликтов. Соответственно в судах нарастало количество гражданских дел: если в 1923 г. число гражданских дел, рассмотренных в народных судах Сибирского края, равнялось 87,4 тыс., то в 1928 г. оно выросло до 213,9 тыс. 3
Судебная статистика позволяет составить представление о характере и содержании гражданских правоотношений, приводивших к конфликтам и обращению в судебные учреждения. В 1926–1927 гг. наибольшее количество гражданских дел в судах Сибирского края давали трудовые споры – 15– 16 %; дела по взысканию алиментов составляли 9–11 %; споры по договорам купли-продажи, подряда и товарищества – 8–10 %; разделы крестьянских дворов и семейноимущественные разделы – 8,9 %, споры по другим поводам давали значительно меньшую долю 4.
В судебные учреждения активно обращались все социальные группы деревни. Например, в Красноярском округе в 1927 г. бедные и средние крестьяне составляли 63,7 % истцов и 81,1 % ответчиков по гражданским делам; государственные организации и кооперативы – 32,4 % истцов и 9,7 % ответчиков; кулаки составляли 3,9 % истцов и 9,2 % ответчиков. В более развитых в экономическом плане округах доля богатых крестьян в судебных процессах была выше. Так, в Рубцовском округе кулаки выступали в качестве истцов по 9,1 % гражданских дел и в качестве ответчиков по 20 % дел 5.
Анализ судебного делопроизводства позволяет сделать вывод, что в сельской местности, прилегавшей к крупным городам, более развитыми были рыночные отношения, а следовательно, и частыми были обращения в суд по регулированию гражданских правоотношений. Так, Красноярский окружной суд в 1928 г. с целью обобщения практики гражданского судопроизводства поручил народным судам округа предоставить ему рассмотренные гражданские дела. Из общего количества гражданских дел из отдаленного Казачинского района поступило 10,6 %, из менее отдаленного Больше-Муртинского района – 23,7 %, а из Красноярского района – 65,7 % дел 6.
Интересно отметить, что в развитых районах кулачество более успешно защищало свои интересы. В Казачинском районе судебные решения в пользу кулаков были вынесены в 4,7 % дел, в Больше-Муртинском – в 9,3 %, а в Красноярском районе – в 12,1 % дел 7.
В ходе наступления на кулачество советское государство опиралось на возрастающую активность деревенской бедноты. Например, в Томском округе в 1929 г. беднота выступала в качестве истцов по 70 % гражданских дел. Чаще всего иски предъявлялись к середнякам – 39 %; к кулакам – 3 %. При этом 50,4 % исков бедняков по данным народных судов Томского и Красноярского округов разрешались в их пользу. Напротив, иски со стороны кулаков удовлетворялись лишь в 4,7 % случаев 8.
В условиях наступления на кулачество, развернувшегося в конце 1920-х гг., народные суды Сибири более решительно стали защищать интересы деревенских батраков, предъявляющих иски к своим нанимателям. Соответственно число таких исков в судах возрастало. Так, в Томском округе в 1929 г. на один судебный участок приходилось 8–9 подобных исков, а в 1930 г. – уже 12 9.
В 1929 г. мировые соглашения по искам батраков достигались в 29 % случаев, в 1930 г. их число сократилось до 12,1 %. Это означало, что суды не позволяют кулакам скрывать кабальные сделки, не дают им принуждать батраков идти на мировое соглашение вопреки своим интересам.
Народные суды стали более решительно пресекать попытки кулаков использовать при найме батраков так называемые «Временные правила о подсобном наемном труде», позволяющие им заключать с батрака- ми договоры, имевшие кабальный характер. Суды стали применять при рассмотрении исков от батраков Кодекс законов о труде, позволявший даже выходить за пределы исковых требований в интересах истцов. Если в 1929 г. суды удовлетворяли претензии батраков с превышением суммы иска по 6–12 % дел, то в январе-мае 1930 г. – по 28,4 % дел. Более того, в 10,1 % случаев ответчики-кулаки при выявлении кабальных сделок были привлечены судами к уголовной ответственности 10.
Советское государство выступало как защитник интересов бедных крестьян в их спорах с более зажиточными. Славгород-ский окружной суд в ходе проверки работы народных судов в 1928 г. установил, что в судах было рассмотрено много случаев о потраве посевов в бедняцких крестьянских хозяйствах кулацким скотом. Краевой суд, рассмотрев практику подобных дел, рекомендовал народным судам не только взыскивать ущерб в пользу пострадавших хозяйств, но и привлекать виновных кулаков к уголовной ответственности 11.
Усиливавшееся во второй половине 1920-х гг. давление со стороны советского государства на кулачество в форме налогового обложения и по другим направлениям приводило к росту дробления крестьянских хозяйств. Однако вопреки распространенным представлениям активно участвовало в этом процессе не только кулачество, но, прежде всего, среднее крестьянство и даже беднота. Крестьяне опасались, что экономический рост и укрепление хозяйства могут привести к зачислению их в ряды кулаков. Дробление хозяйств, безусловно, ослабляло производительность сельского хозяйства Сибири.
В 1926–1927 гг. в судах Сибири из рассмотренных дел по имущественным разделам 33,3 % приходилось на бедняцкие хозяйства, 52,8 % – на середняцкие хозяйства, и только 13,9 % – на кулацкие хозяйства 12. Таким образом, в процессе дробления хозяйств представлены были все социальные группы деревни.
Во второй половине 1920-х гг. советское государство, развернув форсированную индустриализацию и остро нуждаясь в росте инвестиций в промышленность, стало ужесточать налоговый пресс, прежде всего, на зажиточное крестьянство, а в целом на все слои деревни. Одним из ведущих направлений гражданского судопроизводства в этот период стали иски государственных и кооперативных организаций к крестьянам, которые имели различные долги по взятым кредитам, ссудам и другим обязательным платежам.
Рост задолженности сибирских крестьян по различным видам платежей объяснялся комплексом причин. Одной из них была и низкая правовая культура крестьянства. Многие крестьяне не были готовы к тому, что государство может через суд взыскать с них долги, а более того, в случае необходимости и обратить взыскание на имевшееся у крестьян имущество.
Но по большому счету нараставший вал судебных исков к крестьянам был вызван возникшими в 1927 г. трудностями хлебозаготовок и кризисом в отношениях между государством и крестьянством. Низкие цены на сельхозпродукцию, установленные государством, не позволяли крестьянам получать достаточные доходы для беспроблемного погашения всех своих обязательств и платежей. В результате задолженности крестьянства Сибири государственным и кооперативным организациям нарастали как снежный ком. Органы местной власти констатировали, что, например, просроченная задолженность за купленные сельхозмашины у крестьян Сибири на 1 января 1928 г. составила 797 тыс. руб. 13
Двадцатого декабря 1927 г. Сибкрайком ВКП (б) направил директиву окружкомам партии, в которой потребовал «…усилить взимание платежей в деревне, в частности, принять все меры к полному взысканию страховых платежей к установленному сроку – 31 января, а также добиться полного поступления в сроки сельхозналога и платежей по задолженности по сельхозкредиту (по машиноснабжению и др.), не допуская просрочек ссуд и упростив (по линии судебной) и ускорив порядок взыскания этой задолженности» 14.
Указание партии было немедленно доведено до судов. Двадцать первого декабря 1927 г. Сибкрайисполком Советов направил в Сибирский краевой суд распоряжение «дать на места (по судебной линии) указания об упрощении и ускорении порядка рас- смотрения дел о взыскании задолженности по сельхозкредиту, в частности по машино-снабжению» 15.
Таким образом, перед судебными органами ставилась задача резко усилить денежные взыскания с крестьян за счет сокращения задолженности по всем платежам государственным и кооперативным организациям: по налогам, страхованию, семенным ссудам и другим платежам.
В 1928 г. после приезда в Сибирь И. В. Сталина, который обвинил работников правоохранительных органов Сибири в потере классового чутья и смычке с кулаком, партийные комитеты еще в большей мере стали вмешиваться в деятельность судов, многие судьи были отстранены от работы. После такого подстегивания суды Сибири еще в большей степени стали осуществлять давление на крестьянство в интересах государства. Чтобы заставить крестьян более активно сдавать государству хлеб, в судебном порядке жестко взыскивались недоимки по уплате налогов, платежи по ссудам, кредитам и т. п. Например, в 1927 г. категория таких судебных дел в Томском округе составляла 20 % от дел по взысканиям, а в 1928 г. их доля достигла 67 % 16.
О том, как разворачивался процесс выполнения судебных решений, можно судить по сведениям из Бийского округа. На 19 января 1928 г. за злостную неуплату сельхозналога здесь по судебным решениям было описано имущество 1 973 хозяйств, против 100 крестьян прошли показательные судебные процессы. Суды приняли 9 661 решение о взыскании по просроченным ссудам, на 4 208 крестьян был наложен штраф 17.
В целом по Сибирскому краю усиленный сбор недоимок с крестьян по различным платежам привел к вынесению большого количества судебных решений о взыскании долгов. Только в январе-апреле 1928 г. народные суды Сибирского края вынесли свыше 56,9 тыс. судебных решений о взыскании с крестьянства недоимок на сумму 2,9 млн руб. в пользу государственных и кооперативных органов 18.
В условиях отсутствия в большинстве судов судебных исполнителей взыскания задолженности осуществлялись в основном сельскими подразделениями милиции Си- бири. За январь-март 1928 г. удалось взыскать только 1,5 млн руб.
Из всех платежей крестьянство более охотно выплачивало сельхозналог. Если на 15 января 1928 г. крестьяне выплатили 6,07 млн руб., то к 15 февраля было уплачено еще 10,6 млн. Всего же за четыре месяца удалось собрать 22,3 млн руб. Взыскания налога также сопровождались судебными репрессиями против недоимщиков. По неполным данным к началу мая 1928 г. были вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности за неуплату налога с 2 663 крестьян. Следует отметить, что провозглашенный властью принцип ограничения и вытеснения кулачества в данном случае оказался не столь уж важным: в числе получивших такие судебные решения кулаки составляли только 9,2 %, середняки – 80 %, бедняки – 0,8 % 19.
Недостаточная численность подразделений милиции не позволяла в отведенные законом сроки провести взыскания по судебным решениям. Так, в Угловском районе Рубцовского округа народный судья выдал 700 приказов о взыскании недоимок четырем участковым милиционерам 20. К тому же для милиционеров, в большинстве своем вчерашних крестьян, психологически было сложно проводить процедуру описания и распродажи скудного имущества крестьянина-должника. Все это порождало волокиту (до 2–4 недель) и бюрократические казусы при исполнении судебных приказов. Например, поступавшие из судов исполнительные листы передавались для производства по ним взысканий участковому милиционеру в течение недели, хотя предполагалось их немедленное исполнение 21.
Опыт работы по взысканию недоимок показал, что только усилиями сельской милиции провести ее сложно. Особенно в момент наступления сроков платежей, когда следовала одновременная передача исполнителям основной массы судебных приказов. Например, в Рубцовский РАО из суда в один день поступило 73 таких документа 22.
В результате далеко не все недоимки удавалось взыскать. Так, в 1928 г. в отделы милиции Кузнецкого округа поступило 4 245 судебных приказов о взыскании за- долженности с крестьян на сумму 307 тыс. руб. Однако выполнить удалось только чуть больше половины – 2 284 приказа на сумму 226,3 тыс. руб. (73,7 %) 23.
Кампания по взысканию недоимок показала, что основными задолжниками являлись середняки и беднота. Наиболее быстро взыскания производились с бедноты, медленнее с зажиточной части крестьянства. Именно в отношении зажиточных крестьян часто приходилось применять опись и распродажу имущества в связи с отказом выплачивать недоимку.
В ходе кампании по взысканию недоимок беднота и часть середняков высказывали недовольство советской властью, которая, по их мнению, вместо того, чтобы защищать бедное крестьянство, угрожает им судом и распродажей имущества. Иногда такое недовольство перерастало в агитацию против погашения недоимок. Так, в Уярском районе Красноярского округа в пос. Борисовский в январе 1928 г. местный житель Ляпин выступил на собрании крестьян с призывом не платить страховых платежей. Собрание поддержало его предложение. Местные власти ответили на такой призыв арестом Ляпина и возбуждением уголовного дела, продемонстрировав жесткую реакцию на неповиновение крестьян 24.
В ходе кампании по взысканию недоимок выявилось стремление крестьян скрыть имевшиеся в хозяйстве запасы зерна. Большинство крестьян старалось уплачивать недоимки и штрафы деньгами, а хлеб не сдавать. Отмечались многочисленные случаи отказа крестьян от покупки сельскохозяйственной техники и машин 25.
Работа судебных органов по взысканию задолженностей рассматривалась партийными и советскими органами как средство давления на крестьянство с целью побудить их более активно продавать хлеб государству. Так, в хлебозаготовительную кампанию 1928/29 г. работа судов по вынесению решений о взыскании задолженности развернулась уже в сентябре 1928 г. Однако поначалу такая работа проводилась довольно вяло. Оживление деятельности судов по взысканию задолженности стало происходить только в конце 1928 г. Например, в Ачинском округе в декабре было взыскано 52 тыс. руб., или 80 % от суммы задолженности, тогда как в октябре взыскания составили всего 12 %.
Однако в отдельных округах положение изменилось мало, отмечалась слабая эффективность работы по взысканию задолженностей с населения. Так, в Омском округе из суммы в 786 тыс. руб., на которую были вынесены решения к взысканию за период с 1 октября 1928 г., удалось взыскать на 1 марта 1929 г. только 219 тыс., или 28 % 26.
По Кузнецкому округу к 1 июля 1929 г. было вынесено 3 404 судебных решения на сумму 277,8 тыс. руб., однако выполнено было 3 011 (88,5 %), взыскано недоимок на сумму 244,2 тыс. руб. (87,9 %) 27.
Все же доля реально осуществленных судебных решений по взысканиям задолженности в 1929 г. повысилась по сравнению с 1928 г. В целом по Сибири работа судебных органов совместно с милицией по взысканию задолженности приносила весьма ощутимый результат. В Сибирском крае только в январе-марте 1929 г. с помощью судебных решений было взыскано с крестьянства 2,6 млн руб. в счет просроченных платежей 28.
Опыт участия правоохранительных органов в двух хлебозаготовительных кампаниях (1927/28 и 1928/29 гг.), в том числе, и опыт работы по взысканию задолженности крестьянства перед госорганами и кооперацией, обсуждался на краевом совещании в Новосибирске 31 августа 1929 г. 29 Отмечены были успехи и недочеты в этой работе, были поставлены задачи по активному участию в хлебозаготовках 1929/1930 г.
Двадцать четвертого сентября 1929 г. на места было направлено совместное циркулярное письмо, подписанное руководителями краевого суда, прокуратуры, ОГПУ и Сибкрайадмотдела, которое ориентировало судей и других сотрудников правоохранительных органов на продолжение давления на крестьянство, чтобы побудить его сдавать хлеб государству. Помочь в этом должны были, как и прежде, взыскания с кресть- ян по судебным решениям различных задолженностей 30. Судебные органы руководствовались постановлением Сибкрайис-полкома от 14 августа 1929 г. «Об организации хлебозаготовок и хлебоснаб-жения», в котором перед всеми звеньями государственного аппарата было поставлено требование «обеспечить своевременное и полное поступление всех видов крестьянских платежей» 31.
Однако поначалу осенью 1929 г. наблюдались слабые результаты в работе по взысканию задолженностей с крестьянства. Всего по краю в октябре из суммы задолженностей в 1 млн 619,4 тыс. руб. удалось взыскать лишь 487,8 тыс. (30,1 %). Даже в наиболее успешных округах – Ачинском и Барабинском доля взысканных средств составила 78 и 76 % соответственно. Низкая активность привела к росту в крае остатков невзысканных сумм с 732,8 тыс. руб. на 1 октября до 1 131,6 тыс. на 1 ноября 1929 г.32
Итоги работы по взысканию задолженности с крестьянства Сибири на 1 декабря 1929 г. оказались не очень утешительными. Обязательных платежей поступило 45,9 млн руб. (85,7 % от плана). Недобор по страховым платежам выразился в 3 млн руб., по самообложению – около 2 млн, кредитной задолженности – 1,5 млн руб. Наименее успешно шло взыскание платежей Госсель-складу за проданные в кредит сельскохозяйственные машины. Вместо 2 363 тыс. руб. было получено только 748 тыс. (31,7 %).
Правда, после критики партийных органов правоохранительные органы активизировались и сумели к марту 1930 г. взыскать просроченных платежей по сельхозкредиту на сумму 3 747,7 тыс. руб. и платежей Госсель-складу за машины в сумме 291 тыс. 33
В целом роль судебных органов в регулировании гражданских правоотношений между сибирскими крестьянами, а также между крестьянством и государством в течение 1920-х гг. неуклонно возрастала. Анализ судебного делопроизводства показывает, что к концу десятилетия в судах Сибири резко выросло количество гражданских дел, в ходе которых разрешались имущественные споры и конфликты между крестьянами. При этом все слои крестьянства активно обращались в суд за защитой своих интересов.
Однако в конце 1920-х гг. советское государство стало более активно использовать судебные органы для решения политических и экономических задач в ходе преобразований сельского хозяйства. Особенно мощному давлению подвергались хозяйства зажиточных крестьян и кулаков. В конце 1920-х гг. государство стало более жестко взыскивать с крестьян задолженности по различным платежам, используя для этого судебные решения. Таким образом, суды из инструмента регулирования гражданских правоотношений все в большей степени превращались в репрессивный инструмент давления на крестьянство.
Материал поступил в редколлегию 28.04.2013
33 Работа органов юстиции Сибирского края. С. 19.