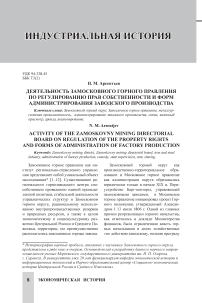Деятельность Замосковного горного правления по регулированию прав собственности и форм администрирования заводского производства
Автор: Арсентьев Николай Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Индустриальная история
Статья в выпуске: 4 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка исследования деятельности Замосковного горного округа конца XVIII - середины XIX в. по регулированию прав собственности и форм администрирования заводского производства. Выбранный объект исследования интересен как в плане анализа опыта форм регионально-отраслевого управления в России, так и с позиции анализа факторов модернизации горнозаводского производства, связанных с переходом от протоиндустриального к индустриальному этапу
Замосковный горный округ, замосковное горное правление, металлургическая промышленность, администрирование заводского производства, опека, казенный присмотр, аренда, акционирование
Короткий адрес: https://sciup.org/14723740
IDR: 14723740 | УДК: 94:338.45
Текст научной статьи Деятельность Замосковного горного правления по регулированию прав собственности и форм администрирования заводского производства
Замосковное горное правление как институт регионально-отраслевого управления представляет собой уникальный объект исследования* [1–12]. Существование регионального горнозаводского центра способствовало проведению единой промышленной политики, стабильной деятельности управленческих структур в Замосковном горном округе, рациональному использованию внутрипроизводственных резервов и природных ресурсов, а также в целом экономическому и социокультурному развитию Центральной России и Среднего Поволжья, территории, где преимущественно располагались замосковные горные заводы.
Замосковный горный округ как производственно-территориальное образование и Московское горное правление как администрация округа образовались юридически только в начале XIX в. Переустройство Берг-конторы, управляющей замосковными заводами, в Московское горное правление инициировал проект Горного положения, утвержденный Александром I 13 июля 1806 г. Одной из главных причин реорганизации горного начальства, как отмечалось в докладе Министерства финансов, была ограниченная власть горных начальников в делах хозяйственных «по действию заводскому, полагая преграду не только к устроению заводских частей, но и к усовершению искусства». В результате само заводское хозяйство не знало своих расходов на выделку металлов, казна же терпела от этого убытки [17, с. 4].
По проекту Горного положения 1806 г. в целях упорядочения управления казенными и осуществления надзора за частными горными заводами вся территория государства была разделена на 5 горных округов. Московское горное правление было открыто почти через год после утверждения проекта Горного положения. Так, берг-инспектор Соймонов в представлении об открытии Московского горного правления от 2 мая 1807 г. сообщал министру финансов следующее: «Честь имею Вашему сиятельству донести, что сего числа Московское горное правление в отведенных от главноуправляющего Кремлевскою экспедициею комнатах кремлевского дворца, надлежащим порядком открыто» [47].
Московское горное правление (как и другие четыре горных правления) представляло собой подведомственную Департаменту горных и соляных дел структуру, в ведении которой находились заводы центральной части России. Так как в Замосковном округе не имелось заводов казенных (кроме одного квасцового в Тамбовской губернии), все обязанности Московского горного правления относились только к частным заводам, находящимся на праве или посессионном или владельческом [17, с. 137–138]. Штат состоял из председателя, или берг-инспектора, двух советников, секретаря, бухгалтера, протоколиста, регистратора, казначея, архивариуса. В здании правления располагались чертежная (в которой работали маркшейдер и его помощник) и пробирная (с обер-берг пробирором и двумя его помощниками, занимающимися заводскими пробами) [17, с. 181, 253].
В число главнейших обязанностей Московского горного правления входили сбор податей с заводов частных людей; «приведение в известность» рудников и заводов по правилам, предписанным в Горном положении; выдача разрешений искать рудни- ки и строить новые заводы; прием заявок и отвод рудников; вспоможение заводчикам и рудопромышленникам; надзор за заводами частных людей на основании Горного положения и прежних узаконений; полицейское наблюдение по заводам и селениям, к ним принадлежащим; надзор за лесами казенными; суд по делам горным [17, с. 138–139].
В отличие от Уральского горного правления рассеянность замосковных заводов по многим губерниям (округ в первой половине XIX в. охватывал Владимирскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тамбовскую, Рязанскую, Калужскую, Орловскую, Тульскую, Костромскую и Вологодскую губернии), отдаленность их друг от друга, «неизвестность всех местных их обстоятельств» делали введение должности заводских исправников не только затруднительным, но даже «мало обещающим той пользы, которую по оным заводам горная часть чрез сии распоряжения приобретает» [17, с. 139]. Поэтому на первых порах заведование полиции по замосковным заводам было предоставлено нижним земским судам на том же основании, «как они ныне оную заведывают, с тем однако ж», что они обязаны будут давать все требуемые от них сведения Московскому горному правлению и выполнять все его предписания [17, с. 140]. Подсудные дела горного рода поступали в судебные места тех уездов, в которых состояли заводы. Судебные места должны были подчиняться указам горного правления на том же основании, как они подлежали указам Гражданской и Уголовной палат. Гражданский губернатор не имел права самостоятельно вмешиваться в дела заводской части – только с согласия и ведома горного начальства [22]. Таким образом, Московское горное правление обладало и исполнительной, и судебной властью и заменяло в общем порядке гражданское управление и губернское правление, а также палаты гражданского и уголовного судов. Поэтому в горное правление поступали как следственные и полицейские, так и судебные дела из уездных судов, магистратов и ратушей [28].
За первую половину XIX в. количество служащих Московского горного правления увеличилось как в рамках «традиционных» должностей, так и в связи с появлением новых направлений деятельности чиновников. В 1826 г. в его штат входили: советники – 10 чел., «повытчики» – 5, канцелярские служители – 8, канцеляристы – 13, служащие по чертежной палате – 5, служащие по пробирной палате – 11, медицинские чиновники – 8, заводские исправники – 3, командированные на заводы – 7, итого – 70 чел. [49].
Во главе правления находился московский берг-инспектор – берг-гауптман 6-го класса и кавалер Макеровский. Если в 1806 г. на содержание чиновников ведомства выделялось 19 450 руб., то в 1826 г. эта сумма была увеличена сначала до 36 700, а затем до 45 000 руб. [83].
В 1827 г. штат горного правления был расширен за счет введения должности чиновника для особых поручений. Первым на данную должность был назначен титулярный советник Петр Дугин, который служил в Московском горном правлении с самого его открытия и был многократно командирован на заводы для производства следствий и учета выплавки чугуна. Он принес немалую пользу казне и приобрел глубокие познания по горной, заводской и пробирной частям, а потому сверх делаемых ему поручений по заводам часто посылался на Нижегородскую ярмарку для наблюдения за действием пробирной палатки и законной продажей золота [84].
На протяжении первой половины XIX в. система управления замосковными горными заводами не претерпела существенных изменений. Горное начальство (Департамент горных и соляных дел и Московское горное правление) продолжали осуществлять прежнюю политику, направленную на определение «правил игры» для металлургических предприятий, регламентируя самые различные стороны их деятельности. Во главе Московского горного правления в 1850–1860-х гг. стоял берг-инспектор Е. Г. Чебаевский и три советника –
З. М. Гладыревский, И. П. Литвинов и Н. В. Зворыкин [20].
Деятельность Замосковного горного правления по регулированию прав собственности и форм администрирования является мало исследованной. Остановимся на некоторых сюжетах в деятельности правления по этому поводу. Начнем с декларирования следующего тезиса, что форма администрирования и эффективность заводского производства во многом зависела от предпринимательского таланта заво-довладельцев. Горное правление осуществляло только надзор за ними и вмешивалась лишь в крайних случаях.
Как видно из перечня штатных должностей, специфика деятельности чиновников правления в некоторых случаях предполагала так называемую заводскую службу. Существенным полномочием горного правления, влияющим на деятельность частного металлургического производства, являлось введение казенного присмотра над посессионными и владельческими и опеки над владельческими заводами. Данные меры учреждались по закону [29] в следующих случаях:
– когда заводчик получал ссуду или «вспоможение» из горных сумм;
– когда были просрочены платежи по займу из кредитных учреждений под обеспечение заводского имения;
– когда горное правление признавало справедливыми жалобы рабочих людей на недостаточное и стеснительное содержание от заводчика [40].
В первом случае чиновникам поручалось управлять заводами «без всякого стеснения» в хозяйственных распоряжениях. При этом велось наблюдение за тем, чтобы выданные суммы были употреблены не на что другое, как на восстановление в прежнем виде поврежденного или уничтоженного наводнением, пожаром и другими подобными несчастными случаями имущества, и чтобы получаемые при заводах металлы и приготовляемые из них изделия были пущены в продажу не иначе, как с ведома и позволения горного правления, до тех пор пока выданная на «вспоможение» сумма не будет уплачена. Выданные денежные суммы хранились в заводской конторе за печатями чиновника и заводоуправления и расходовались только на те предметы, для которых была выдана ссуда, и только по постановлениям конторы [41].
При просроченных платежах по займам у чиновника имелись более широкие полномочия. Чиновник совместно с заводоуправлением составлял для действия заводов смету (расхода и дохода). Он осуществлял жесткий контроль за точностью исполнения сметы, допуская в случаях надобности только частные изменения по ней. Заготовление припасов и всех других заводских потребностей хозяйственным способом или с подряда велось также при его участии. Денежная касса хранилась за печатями чиновника и заводоуправления. Продажа металлов как на заводах, так и на ярмарках и в других местах производилась с ведома и согласия чиновника.
Наконец, если рабочие люди жаловались на стеснительное содержание и если после напоминания заводчику положение не улучшалось, то посессионные заводы также брались в казенный присмотр, а владельческие – в опеку [42].
В 1813 г. было разрешено брать в казенный присмотр чугун и металлические изделия частных заводов, не заплативших податей, с предоставлением заводчикам права их продажи для уплаты недоимки и просрочки в 6 %. Командирование на заводы происходило также в результате возникновения на тех или иных заводах чрезвычайной ситуации (волнений рабочих, споров наследников, серьезных производственных трудностей и др.) или же по просьбе самих заводчиков. Так, в 1826 г. 3 чел. были командированы на заводы Баташева, 2 – на заводы Шепелева, 1 – на Рябкинский Шапкина и 1 – на Дугненский Лаврова.
В 1854 г. штат Московского горного правления расширился за счет введения специальных должностей чиновников для управления и присмотра от казны над частными заводами «с содержанием на счет заводов из двойного оклада, назначенного по тому же штату заводским исправникам, т. е. из 280 руб. 20 коп. сер. в год» [24].
Показательным представляется казенный присмотр над Сенетско-Ивановским железоделательным и чугуноплавильным заводом, учиненный в 1862 г. горным правлением вследствие просрочки займа из бывшего Заемного банка. Заем был сделан 3 июня 1837 г. сроком на 33 года в размере 24 650 руб. под залог имения умершей подполковницы Калисты Кавериной и перешел к ее малолетним детям. К 1862 г. на имении числилась задолженность в размере 15 593 руб. 53 коп., в том числе недоимки платежей горной подати за 1823 и 1824 гг. составили 1 469 руб. 71 коп. [43].
Согласно ст. 522 т. 11 Свода законов (Устав кредитных установлений, 1857 г.) Московское горное правление должно было взять назначенное имение в казенный присмотр «…для сбора доходов на исполнение банковской недоимки и о составлении описи сему имению, для назначения оного в продажу» [43].
Для решения указанной проблемы 21 июня 1862 г. было предписано командировать на Сенетско-Ивановский завод чиновника горного правления надворного советника Бусинова. При этом оплата проезда (27 руб. 78 коп.), жалованье (в размере двойного годового оклада в сумме 840 руб.) относились на счет Сенетско-Ивановского завода [46].
Предварительный анализ ситуации на заводе показал, что недоимки «…проис-ходят большей частью от беспорядочного управления и расстройства заводов». Для исправления положения горному чиновнику было рекомендовано принять следующие меры:
-
1) совместно с заводоуправлением составлять ежегодно для действия заводов смету, в которой определялось бы, «сколько металлов и какими способами заводы могут приготовить; какой потребуется расход на годовую операцию; какой может быть получен доход и какая сумма предлагается в уплату займа. Смета представляется на
утверждение Горного правления и возвращается благовременно до начала года»;
-
2) наблюдать за точным исполнением сметы, допуская лишь внутренние ее изменения, не влияющие на общие итоги;
-
3) осуществлять контроль над «…заго-товлением припасов и всех других заводских потребностей, хозяйственным образом или же с подряда»;
-
4) распоряжаться денежной кассой, наблюдать за расходом и поступлением денег;
-
5) контролировать реализацию изделий, способствуя максимальной выгоде. Вырученные деньги должны направляться лишь на «существенные нужды заводские и на уплату долга в кредитное место».
Баланс доходов и расходов, составленный вместе с заводским управлением, чиновник должен был представлять горному правлению [45].
Прибыв на место и ознакомившись с ситуацией на заводе, чиновник Бусинов сообщил горному правлению, что завод не действует «…по случаю починки домны и капитальных перестроек», проводимых новым арендатором завода генерал-майором Мальцовым. После погашения Мальцовым числившейся за заводом недоимки Департамент горных и соляных дел 10 сентября 1862 г. принял решение об отмене казенного присмотра и составления описи имения Кавериной [44].
Результаты подобного администрирования не всегда были позитивными. Бюрократическая деятельность горного заводского управления порой оказывалась малоэффективной. В начале XIX в. в трудном финансовом положении оказались заводы А. Р. Баташева. Нужны были срочные меры по спасению производства от развала. Н. Соколов, поверенный в делах одного из сонаследников, П. Баташева, писал следующее о причинах недостатка капитала: «Со времени кончины основателя заводов А. Р. Баташева до смерти родителя доверителя его, заводы сей в продолжении 18-ти или 19-ти лет всеми возможными средствами разорялись и не только истинные с оных доходы без остатков на поправление при- ходящего в ветхость, но и сами источники доходов, быв превращаемы в наличные деньги стараниями бывшего тогда управляющего, родственника г-жи Баташевой, купца Филиппа Иванова, отправлялись в Санкт-Петербург и со временем составили многие миллионы, перешедшие в руки г-жи Баташевой с детьми ея, вместе со взятыми из заемных банков значительными суммами под залог имения, с коих теперь должны выплачиваться займы сей, сделанные без особой нужды для родового имения, единственно для умножения миллионов. Отправленные перед кончиною господина А. А. Баташева в Санкт-Петербург и находившиеся уже там товары и суммы денег, выручаемые в то время на ярмарке капиталы, долженствовшие быть доставлены в главную заводскую контору, остались у г-жи Баташевой» [21]. Дедовский дом (А. Р. Баташева) в Гусевском заводе был опустошен. Все ценности (золотая и серебряная посуда, картины, мебель) были перевезены в Петербург в дом Матвеевой. К управлению были приставлены ее родственники, которые при невежестве своем и корыстолюбии губили завод. Родовое гнездо подвергалось как бы «неприятельскому» опустошению, и заводы Баташевых разорялись. «Заводы, бывшие когда-то предметом удивления любопытствующих иностранных путешественников, зависти заводчиков, богатства и славы государства, оказались достойны лишь жалости и негодования всякого благомыслящего человека» [21].
Наследники, сваливая вину в разорении имения друг на друга, не желали вкладывать капиталы в производство, несмотря на строгие указы Московского горного правления и Горного департамента. Осуществлявшееся в 1816–1820 гг. управление через поверенных не имело успеха. Взятие имения в ведение дворянской опеки, которое продолжалась с 1820 по 1835 гг., еще более усугубило ситуацию, «поставило заводы в такое положение, при котором существование их сделалось не только бесполезным для владельцев, но и лишило их самого достояния» [14]. Современник так описывает систему дворянской опеки: «Все начальствующие лица стремятся воспользоваться долей легкой добычи, дезорганизация управления делается полною, деморализация служащих достигает крайних пределов, и неизбежна страшная, угрожающая катастрофа» [14]. Показателем упадка гусевских заводов прежде всего служит рост долгов. Если в 1821 г. капитал (в деньгах, изделиях и запасах) составил 1 565 тыс. руб., а долги — 434 тыс., то в 1835 г. подобный капитал не превышал 1 176 тыс. руб., а долги возросли до 2 475 тыс. руб. Таким образом, за 14 лет убыль капитала составила 2 430 тыс. руб. [16]. В 1834 г. за предприятиями наследников Баташевых числилось казенного и частного долга 1 722 243 руб. [23].
Изданный в 1836 г. высочайший указ, предписывающий «за неимоверное злоупотребление и упущение опекунов по управлению имением» в назидание другим создать особую комиссию, не мог спасти положение. Комиссия предала суду некоторых виновных и в счет погашения долга распродала их имения, но заводское производство уже было развалено [15].
В 1835 г. после 14 лет разорительной дворянской опеки был произведен очередной раздел баташевского наследства. Имение, состоявшее из 7 заводов с 1 254 душами мужского пола мастеровых, больших лесных, рудных и сельскохозяйственных площадей в 120 тыс. дес. и с 11 337 душами мужского пола разделено на части: Гусевский, Верхнеунженский, Сынтуль-ский заводы отошли Ивану Баташеву (сыну А. Р. Баташева); Илевский и Вознесенский были назначены Петру (сыну Андрея Андреевича Баташева); Еремшинский и Мердушинский достались Силе Баташеву (второбрачному сыну А.А.Баташева). Наследники по женской линии должны были получить владения в размере 1/7 стоимости имения [13].
Подобных примеров банкротства горнозаводских хозяйств можно привести немало в связи с этим на протяжении первой половины XIX в. широкое распространение в системе управления замосковными горными заводами получили арендные отношения. Многие заводовладельцы по разным причинам отказывались от функций управления металлургическими предприятиями, передавая их за определенную плату в другие руки. Причем в большинстве случаев в качестве главного арендного условия выступала передача арендатору всего заводского хозяйства с прикрепленными к нему рабочими в полное распоряжение на правах заводчика. Аренда на таких условиях, с одной стороны, предоставляла арендатору свободу деятельности, возможность использования всех ресурсов заводского хозяйства. Но вместе с тем ему передавались и все существующие на заводе проблемы. На него возлагалась обязанность своевременно выплачивать горную подать и другие платежи в казну, осуществлять в соответствии с установленными нормами продовольственное обеспечение населения, содержать обязательные объекты социальной инфраструктуры заводского хозяйства и др. Кроме того, на арендатора перекладывались все долги, к этому времени числившиеся за заводом.
Арендное соглашение на правах заводчика в 1831 г. было заключено почетным потомственным гражданином калужским 1-й гильдии купцом Петром Андреевичем Новиковым с владельцем Дугненского завода, мещанином Дмитрием Дмитриевичем Лавровым. В соответствии с ним сумма аренды завода составила 20 000 руб. в год. К этому добавлялась еще выплата 3 000 руб. за купленное Лавровым у госпожи Палициной имение, «…по исчисленному с него ежегодному доходу» [79]. По 9-й ревизии, при заводе состояло 711 душ, из них непосредственно при заводе – 371, в с. Никольском, Никитском и д. Истоминой Калужской губернии – 293, в д. Рвы и Струковой Тульской губернии – 47 душ [71].
Учитывая, что многие сооружения и заводские механизмы были неисправны и требовали ремонта, горное начальство предоставило арендатору некоторые льготы. Так, в 1832 г. в счет арендной суммы была внесена стоимость проведенных
Новиковым ремонтных работ: плотины – 8 114 руб. 52 коп. асс., кричной фабрики – 5 000, домны – 5 000 руб. Общая сумма вложений Новикова составила 18 114 руб. 52 коп. асс. Кроме того, в дальнейшем была установлена ежегодная сумма на заводские исправления, вычитаемая из арендной суммы, – 428 руб. 57 коп. сер. (1 500 руб. асс.) [72].
До заключения арендного соглашения за Дугненским заводом числилась казенная недоимка в сумме 18 819 руб. 31 коп. асс., которая к 1835 г. была Новиковым погашена. Однако в 1836–1838 гг. им не производилось никаких выплат: ни арендных, ни горной подати. В результате образовался долг в сумме 40 260 руб. 99 коп. асс., для ликвидации которого Сенат разрешил предпринимателю продажу заводских изделий с аукционного торга. После этого Новиков исправно делал все необходимые платежи [73].
В 1841 г. соглашение на право аренды было перезаключено. По истечении второго срока аренды (1841–1853 гг.) между арендатором и Московским горным правлением сложились весьма напряженные отношения. Новиков даже обратился к министру финансов, тайному советнику, статс-секретарю и кавалеру Петру Федоровичу Броку с прошением, в котором выражал желание продолжить аренду завода и недовольство действиями горного правления. Последнее решило отказать Новикову в продлении контракта и выставить право аренды завода с аукционного торга, мотивируя это стремлением увеличить арендную сумму, чтобы обеспечить погашение долгов заводовладельца Лаврова кредиторам. Министр финансов, ознакомившись со всеми полученными материалами, высказался за то, чтобы продлить соглашение об аренде с Новиковым еще на 12 лет на тех же условиях [70].
Однако напряжение во взаимоотношениях Новикова с горным начальством не исчезало. Арендатор был недоволен налагаемыми на него обязательствами, которые как не указанные в условиях соглашения он не должен был выполнять, о чем он и со- общил в жалобе на имя министра финансов в 1855 г. В частности, ему было предписано устройство за счет получаемых доходов хлебного магазина и госпиталя для заводского населения. Кроме того, Новиков должен был сделать определенный взнос за 340 чел. рекрутов: за заводских крестьян, занимающихся хлебопашеством, – частично деньгами, частично хлебом, а за мастеровых, непосредственно занятых в заводском производстве, – только деньгами. Все это шло в «запасной сбор», «продовольственный капитал», остающийся в заводском хозяйстве на случай непредвиденых обстоятельств.
Ситуация осложнилась в связи с возникшим раньше спором Лаврова с другим горнозаводчиком, Билибиным, по поводу лесных дач. Для ее разрешения на место был командирован начальник чертежной палаты горного правления Бусинов, расходы которого должны были оплатить обе стороны. Доля Лаврова была переложена Московским горным правлением на Новикова, против чего тот решительно возражал, говоря об отсутствии каких бы то ни было разногласий с Билибиным [76].
Новиков не согласился на безусловное выполнение ни одного возложенного на него обязательства. По истечении некоторого времени был лишь построен госпиталь, причем Новиков требовал возвратить ему потраченные на это деньги или включить их в сумму арендной платы. Строительство и оснащение госпиталя он оценил в сумму 244 руб. 80 коп. сер. [78]. Более того, Новиков обвинил Московское горное правление в том, что, налагая на него все вышеназванные обязательства, оно нарушает условия контракта. Лично ответственным за это он объявил старшего советника Дугина, в чьих руках непосредственно находилось дело и который, по словам предпринимателя, имел к нему «личное неудовольствие». Называя действия Дугина неправомерными, арендатор требовал отстранить того от руководства при рассмотрении этого дела в Московском горном правлении и назначить на его место другого [77].
Высказывая в жалобе на имя министра финансов недовольство действиями Московского горного правления, Новиков вместе с тем высоко оценивает собственный вклад в развитие заводского производства и социальной сферы. За время его аренды завода «…попечение о крестьянах производилось на таком уровне, что не требовалось для них ни богаделен, ни госпиталя». Московское горное правление, в свою очередь, опровергает слова Новикова, утверждая, что не обнаружило свидетельств «огромных» пожертвований на модернизацию завода и развитие социальной сферы [74].
Ознакомившись со всеми материалами, Департамент горных и соляных дел, а также министр финансов приняли сторону Московского правления, признав все его действия и требования правомерными. Ответ на жалобу купца Новикова последовал в феврале 1856 г. В нем, в частности, сообщалось: «…обнаруживается в действиях, донесениях и жалобах его прямая несправедливость и притом доказывается, со стороны его, Новикова: желание присвоить себе по устройствам в Дугненском заводе таких действий, в которых он не принимал должного участия; неимение надлежащего попечения о благосостоянии находящихся в распоряжении его заводских людей и крестьян и лишение их нужного вспомоществования; уклонение от исполнения начальственных законных распоряжений; неправильное толкование действий Горного правления; наклонность к неосновательным жалобам не только на Горное правление, но и на высшее над оным начальство; домогательство к достижению личных своих интересов, с пренебрежением должного исполнения своих обязанностей, сопряженных с полным правом заводчика; и наконец, непристойные и обидные в просьбе его выражения, противные служебному порядку и подчиненности». Совет Корпуса горных инженеров решил, что необходимо внушить Новикову, чтобы «…впредь он исполнял во всей точности обязательства заключенного им контракта, а также распоряжения начальства, основанные на законе, а
Горному правлению поручить иметь за сим неослабное наблюдение» [75].
В 1832 г. алексинские купцы Масловы отдали в аренду калужскому 2-й гильдии купцу А.Г. Кушинникову Песоченский завод в Перемышльском уезде и Серенский в Козельском. Договор на аренду был заключен 23 октября 1832 г. [55] на срок 3 года, считая с 1 декабря. Конторские служители, смотрители, мастеровые и рабочие люди находились в полном распоряжении арендатора. Месячная плата рабочим была определена «по среднему положенному Масловыми» [80].
Устанавливались два срока внесения арендной платы. По прошествии трехгодичного срока Кушинников обязывался взять в аренду Серенский завод еще на 2 года, а Масловы беспрекословно должны были заключить с ним законное условие, предполагая ежегодную плату за аренду по 17 тыс. руб. «ходячей монетой».
Условия аренды были общепринятыми и состояли в следующем: хлеб на продовольствие мастеровых и конторских служителей в счет получаемого ими жалованья обязывался заготовлять Кушинников; все инструменты и модели при заводах арендатор принимал по описи в свое распоряжение и должен был сдать их в исправности; подати выплачивал тоже он (оброчные с выплавки чугуна, десятинные за мастеровых подушные с повинностями и рекрутами, поземельные за заводы); в случаях прорыва плотины или пожара от молнии все исправлялось за счет Масловых; рудники были предоставлены Кушинникову в полное и беспрекословное распоряжение, «а сколько при заводе Песоченском окажется руды, то получить за нее по 4 коп. за пуд с Кушинникова», «при заводах наличный чугун, если окажется годный к употреблению на выковку железа и отливку литья, а также литье и прочий материал и припасы принять Кушинникову по стоящей заводу цене и с общего согласия». Условия арендного договора стороны обязались хранить свято и нерушимо, а за нарушение виновный в пользу правого должен был заплатить без суда 20 тыс. руб. неустойки, что и было записано в маклерскую книгу [51].
В 1830 г. между заводовладельцем прапорщиком Павлом Михайловичем Яблочковым и полковником Степаном Никитовичем Бегичевым было заключено арендное условие на имение Яблочкова в Ряжском уезде Рязанской губернии в разных дачах, лежащих при р. Иберде, включая чугуноплавильный, железоделательный, винокуренный заводы и при них мукомольные мельницы, со всеми состоящими в дачах землями (700 дес.) и со всеми угодьями: лесами, сенными полосами, пашней, рыбной ловлей, со всеми строениями и прочим хозяйственным заведением. Срок арендного содержания был установлен 11 лет (с 13 августа 1830 г.). Арендная плата Бегичева составляла 70 тыс. руб., из которых Яблочков уже должен был ему 48 тыс., а остальные 22 тыс. полковник выплачивал в течение всего времени каждый год по 2 тыс. руб. [66].
Черепецкий чугуноплавильный завод с 1829 г. находился в аренде у почетного гражданина Осипа Ивановича Билибина, с 1845 г. – у московского 2-й гильдии купца Александра Осиповича Билибина [68], а с 1855 г. – снова у Осипа Ивановича. Владелец завода Виктор Билибин и арендатор Осип Билибин заключили между собой один из самых подробных контрактов, регламентирующий практически все спорные вопросы. Срок арендного содержания был определен с 1 января 1855 г. по 1 января 1859 г. На 4 года чугуноплавильный и железоделательный Черепецкий завод со всеми заводскими строениями, заведениями, машинами, инструментами, вещами, землей принимал в свое полное управление и распоряжение Осип Билибин. Кроме того, ему было предоставлено содержание постоялого двора, находящегося при заводе, а Виктор Билибин взял обязательство не учреждать особого постоялого двора, чтобы не создавать нездоровую конкуренцию. По окончании арендного содержания Осип Билибин должен был сдать завод со всеми его принадлежностями заводовладельцу по описи.
Осип Билибин, без всяких препятствий со стороны владельца, имел право все заводские строения переделывать и вновь строить, с разными машинами и без машин, своим коштом. Оговаривались и форс-мажорные обстоятельства: если, например, в период аренды завод сгорит от молнии, то в таком случае ни арендатор, ни заводовладелец не будут предъявлять друг другу претензии. Если Осип Билибин не захочет восстанавливать сгоревшее на свои средства или стороны не сойдутся в условиях относительно мер и средств для возведения завода, то арендное содержание закончится и Виктор Билибин обязан будет принять по описи только то, что уцелеет от пожара. Осип Билибин при таком окончании арендного содержания удерживал за собой право снять с заводской земли хлеба, траву с лугов и огородные овощи, посеянные и посаженные им.
При прорыве или повреждении плотины половодьем Билибины взяли обязательство сообща выстроить ее вновь или поправить, потраченные же на постройку деньги принять пополам. Если же плотина будет прорвана из-за хозяйственного недосмотра Осипа Билибина или его управляющего, то арендатор обязан будет выстроить ее своим коштом в течение одного года.
За содержание Черепецкого завода и всего того, что к заводу принадлежит, Осип Билибин обязан был выплачивать ежегодную арендную сумму 3 143 руб. сер., производя платеж по истечении каждой трети года. Оговаривалось, что если по каким-либо причинам плата за изделие или отливку поднимется, то Виктор Билибин переплату мастеровым примет на себя, однако не более 1 000 руб. сер. Осип Билибин мог из арендной суммы таковую переплату высчитать. Государственные повинности, т. е. оброчные с домны и за выплавку чугуна, он должен был платить бездоимочно «в свое время куда следует».
Если Осип по каким-либо обстоятельствам прежде назначенного в контракте четырехгодичного срока вздумал бы от содержания завода отказаться, то Виктор не должен был в том препятствовать ему при условии, что Осип уведомит об этом за год. По окончании годового срока Виктор примет у Осипа завод. С другой стороны, ни Виктор, ни его наследники до окончания условленного в контракте срока ни под каким предлогом не могли отказать Осипу в арендном содержании завода, кроме случая, если бы были просрочены арендные платежи.
Сверх арендной платы Осип Билибин обязался сделать в пользу завода своими средствами следующее: а) соорудить новые лавы на мостах плотин; б) заделать трещины, образовавшиеся в каменных стенах здания, в котором находится домна; в) наблюдать за полами и потолками в палатках, где делаются формы для литья, и при необходимости исправлять полы и потолки; г) поправить крышу на деревянном здании, в котором складываются изделия; д) на прочих зданиях крыши держать в порядке; е) наблюдать вообще за всеми постройками и, если понадобится, то исправлять их, не доводя до разрушения.
По окончании срока аренды за излишнее против описи литье Виктор Билибин обязался заплатить Осипу наличными деньгами: за опоки – по 75 коп. за пуд, за бруски и всякий чугун не в изделиях – по 40 коп. за пуд. Чугун же в изделиях Осип имел право оставить за собой. Запасы руды, угля и прочих материалов при сдаче завода оплачивал Виктор по той цене, по какой они обошлись при покупке; все повинности, которые со дня прекращения силы контракта могли относиться к заводу, он тоже принимал на себя [67].
Данное арендное соглашение было записано в маклерскую книгу и доведено до сведения Московского горного правления.
По соглашению от 30 января 1825 г. Петр Филатович Засыпкин отдавал доставшийся ему по разделу с братьями чугуноплавильный Богдано-Петровский завод, состоящий в Лихвинском уезде Калужской губернии, инженер-полковнику Аверкию Ивановичу Гурландье. Последний брал завод в арендное содержание со всеми к нему принадлежащими мастеровыми людьми, всякими заведениями, материалами и деревнями на 9 лет и 11 мес.
Гурландье предоставлялось право полного хозяйственного распоряжения на заводе с обязательным условием платежа всех государственных повинностей и заработной платы мастеровым, какую они до того получали. По договору он должен был платить Засыпкину за производство работ на заводе и за все то, что к нему принадлежит, ежегодно по 20 тыс. руб. государственными ассигнациями. Сверх этой суммы Гурлан-дье обязался заплатить за Петра малолетним детям его покойного брата Александра, причитающиеся по раздельному акту 120 533 руб. 80 коп. Засыпкин, со своей стороны, давал Гурландье доверенность на залог имения с крестьянами и землей в Московском опекунском совете.
Гурландье волен был все заводские строения исправлять и вновь с разными машинами заводить, используя необходимые лесные материалы из дач, к заводу принадлежащих. Если бы он пожелал, то мог бы отправить «куда-либо» для научения механическому и заводскому мастерству 20 чел. и более из крестьян. Засыпкин также не должен был препятствовать этому. Выплата всех казенных недоимок и государственных повинностей, оброчных с домен и с выплавки чугуна входила теперь в обязанности Гурландье.
При пожаре от молнии или прорыве плотины «от великих вод» Гурландье и Засыпкин совместно должны были восстановить все «в лучшем виде». Если же случится что-то из-за недосмотра управляющего при заводе, то Гурландье обязан был выстроить или исправить все своим коштом в течение одного года.
По окончании содержания Богдано-Петровского завода Гурландье взял на себя обязательство сдать имение со всеми заводскими старыми и вновь заведенными строениями, машинами и инструментами, без всякого требования от Засыпкина денег за новые заведения и машины.
Однако губернский регистратор Засыпкин, так же как и аптекарь Карл Генике, которому достался по наследству Кирицкий завод, не мог владеть заводом, не записавшись в 1-ю или 2-ю купеческую гильдию, от Генике к тому же требовалось получение российского подданства. В противном случае на основании указов от 6 февраля 1758 и 27 июня 1823 г. часть Генике в Кирицком заводе и Богдано-Петровский завод должны были быть проданы имеющим право владеть ими в полугодичный срок [62]. В связи с этим в январе 1826 г. Засыпкин приобретает свидетельство на 2-ю купеческую гильдию [61], а в марте 1826 г. Московское горное правление разрешает аренду, но с соблюдением Гурландье нескольких условий:
-
а) лес заводской употреблять собственно только на необходимые для завода устройство и действие, а отнюдь не на прихотливое строение;
-
б) иметь хлебные магазины при заводе, госпиталь для больных и медицинского чиновника с потребными медикаментами; в) содержать престарелых и увечных мастеровых, равно как и сирот, на счет завода [63].
В марте 1827 г. Засыпкин обратился с жалобой в Московское горное правление на то, что Гурландье вырубает лес вблизи завода, а завод впоследствии от невыгодного и дальнего заготовления угля и прочих лесных припасов должен будет ограничить свое действие и уменьшить выплавку металла [64]. В прошении владельца на расторжение аренды говорилось: «В течение времени содержания полковником Гурлан-дье не только что он не выполняет заключенного между нами условия в рассуждении назначенной мне за содержание завода платы, но даже и самое производимое им на заводе моем действие ничего другого собой не представляет, как одну лишь гибель заводу» [57].
Открылись и новые обстоятельства подписания документов. Как оказалось, Петр Засыпкин видел лишь черновик договора аренды, где не было пункта, в соответствии с которым за оставшиеся при заводе и в других местах заготовленные материалы и разные изделия он должен был заплатить арендатору наличными деньгами. Петр, «по уважении звания полковника Гурландье и родственных связей, положился на его доброжелательство», подписал условия, не читая. В то же время при принятии завода полковник получил материалов (чугуна, руды, железа) на сумму около 200 тыс. руб. [56]
Гурландье кроме 10 тыс. при подписании и нескольких тысяч позже, забранных Засыпкиным, значительных сумм не заплатил, а значит, по мнению Петра, договор нарушил. Кроме того, до июля 1829 г. он не платил денег и сиротам Александра Засыпкина. Начались долгие судебные тяжбы, которые закончились продажей в 1832 г. Богдано-Петровского завода наследникам А. Гурландье.
Соглашение об аренде на правах заводчика Сенетско-Ивановского завода заключил 14 декабря 1849 г. жиздринский 3-й гильдии купец Степан Иванович Смирнов с владелицей подполковницей Калистой Александровной Кавериной. Завод вместе со всеми «принадлежностями» на 12 лет переходил в полное распоряжение арендатора. Ежегодная плата была определена в размере 3 430 руб. сер. В эту сумму вошли процентные платежи по залогу имения в Заемном банке в сумме 1 500 руб. сер. [54].
В соглашении оговаривалось, что господский дом с садом, скотным двором и другими хозяйственными «службами» и постройками оставался в руках Кавериной и ее поверенного тульского купца Афанасия Андреевича Коробкова, а флигель – за управляющим заводом.
В распоряжение арендатора переходили заводская контора, строящийся хлебный амбар, постоялый дом в с. Хотьково, а также мельница на Ресете. Причем Смирнов должен был молоть необходимое количество хлеба для «господской экономии» без всякой платы. Кроме того, на него возлагалась обязанность исполнять рекрутскую повинность, вместо поставки заводских крестьян «натурою» внося за них необходимую сумму денег, включаемую в арендную плату. В случае если арендатор пожелает отдать в рекруты рабочего «дурного поведения», он должен был получить согласие Кавериной.
Из 370 крестьян заводского имения 75 чел. арендатор мог задействовать в заводских работах, а еще 75 – на подготовительных операциях (заготовка и доставка на завод руды, угля, флюса и других материалов). Крестьяне получали «задельную» и «поденную» плату. Кроме того, заводская контора могла за отдельную плату привлечь их к исполнению «посыльной» повинности «…от одной до трех лошадей по очереди, но не далее ближайших к заводу городов» [59]. Остальные крестьяне оставались на попечении Кавериной и занимались хлебопашеством.
Арендатору было позволено проводить модернизацию завода и внедрять разного рода усовершенствования, но за свой счет. При этом по истечении срока аренды «ручные инструменты» оставались у него, а вновь построенные заводские сооружения, машины и механизмы «…представляли уже единое целое с заводским имением» [58].
В течение 1851–1852 гг. арендатором были построены хлебный магазин, «2 избы и сени для литейных мастеров», на что было потрачено 240 руб. сер., внесенных в арендную плату. Кроме того, совместно с Кавериной было решено построить больницу для заводских людей [60].
Встречались случаи, когда происходила многоступенчатая передача управленческих функций владельцами завода. Например, Еремшинский и Мердушинский заводы, находившиеся в собственности наследников Силы Баташева, были переданы в арендное содержание почетному потомственному гражданину Якову Сорокину. В то же время все вопросы, касающиеся имущественных проблем и взаимоотношений с арендатором, Баташевы передали своему поверенному, отставному полковнику князю Дмитрию Семеновичу Урусову [65].
Интересно, что права на аренду завода, так же как и владельческие, передавались по наследству. После смерти упомянутого выше Якова Сорокина арендаторами заводов стали его сыновья – Иван и Александр. Хотя в данном случае рассматривался и вариант продажи завода наследниками Силы
Баташева. В фонде Московского горного правления ЦИАМ отложилось «Дело о разрешении наследникам Силы Баташева продать принадлежавшие им горные заводы Почетным гражданам Сорокиным», датированное 1858–1859 гг. Это было обусловлено тем, что за наследниками Силы Баташева к тому моменту числился огромный долг в сумме 213 779 руб. 60 коп. сер. Для них самым лучшим вариантом была продажа завода вместе с долгами и горной недоимкой частным лицам. Московское горное правление не возражало против такого решения, однако в деле не сказано о том, было ли оно реализовано [55].
Судя по последующим событиям, Иван и Александр остались арендаторами, но на правах заводчиков. После смерти в 1859 г. Ивана его полномочия переходят по завещанию жене – Ольге. В этом же году она оформляет доверенность на имя деверя, 2-й гильдии купца Александра Сорокина, где передает ему права на управление заводами при условии, что тот будет извещать ее обо всех своих действиях и управленческих решениях и перечислять часть прибыли [53]. Однако, по словам Ольги, никакой отчетности и денег на ее имя больше года не поступало. Попытки послать поверенных на заводы для участия в управлении закончились неудачно: «…они по разным изворотам Александра Сорокина, несмотря на просьбы мои [Ольги Сорокиной. – Н. А. ] и предписания Горного правления, не были допущены к совместному с ним управлению». Вдова в своем прошении высказывает идею учредить над заводами опекунское управление (от брака с Иваном Сорокиным у нее остались две дочери) [53].
Заводы находились в расстроенном состоянии и к тому же оказались в тяжелой финансовой ситуации. За ними числились как партикулярные (частным лицам) долги, так и казенная горная недоимка в сумме 22 636 руб. 23 коп. В результате горным правлением был «наложен запрет на заводские изделия, а частные кредиторы предъявили иски в московскую управу благочиния и Темниковский земский суд» [52].
Ответственным за проблемы горное начальство признало Александра Сорокина. Тамбовскому губернскому правлению было предписано взыскать недоимки с арендатора, в противном случае – погасить их за счет продажи его имущества или посредством «секвестра выделываемых на заводах металлов». Однако выполнение этого предписания затянулось, за что виновные лица были наказаны: пристав 1 стана Темников-ского уезда получил выговор с занесением в книгу, а секретарь Темниковского земского суда – строгое замечание [34].
После принятия таких мер губернское правление ускорило действия по решению проблемы. Был выбран второй путь погашения долгов, в результате которого было «просеквестировано» изделий на сумму 1 023 руб. 22 коп., впоследствии направленных в продажу [36].
В то же время возникла еще одна сложность, еще более запутавшая ситуацию в управлении заводами. Оказалось, что Ольга не имела законных оснований на управление заводами: «…по неучинению из наследственного имения мужа в законном порядке выдела и по состоянию ее по гильдии при семействе Александра Сорокина по г. Елатьма, она за силою закона не может пользоваться правами и преимуществами, предъявленными гильдии, без доверенности лица, на имя коего выдано свидетельство». Складывалась парадоксальная ситуация, когда получение Ольгой права на управление промышленным предприятием, предусмотренное для купцов 1-й и 2-й гильдии, зависело от Александра Сорокина, с которым у нее были разногласия по поводу арендного управления заводами. В этой связи признавались недействительными доверенности на управление совместно с Александром арендуемым имением, выданные ею коллежскому секретарю Никольскому и служителю Колобкову [31]. Ольга, отстраненная таким образом от управления заводами, отказалась и от всех долгов завода, сняв с себя все обязательства по выплате.
На Еремшинском заводе ситуация еще более осложнилась после пожара 20 авгу- ста 1862 г., истребившего два машинных корпуса и принесшего убытков на сумму около 100 000 руб. [32].
Между тем Тамбовское губернское правление увидело в действиях Александра Сорокина противозаконные намерения «…скрывать некоторое время сделанные растраты и истребление леса и брать доход с заводов в одну свою пользу, минуя других лиц, оставшихся наследниками после арендатора Якова Сорокина» [33]. Было сделано распоряжение Темниковскому земскому суду немедленно взять заводское хозяйство под полицейский надзор [30].
Горное начальство совместно с губернским правлением после долгого обсуждения посчитали наиболее целесообразным и хоть в какой-то мере способным обеспечить выплату долгов завода в столь нелегкой ситуации решение оставить арендаторами Александра и Ольгу Сорокиных. Однако их права были номинальными, а деятельность находилась под контролем уездных и губернских властей, горного правления, а также учрежденного по решению Московского сиротского суда от 15 апреля 1864 г. опекунского управления, куда вошли подпоручик Николай Николаевич Манухин, почетный гражданин Иван Алексеевич Рудаков и др. [30].
В целом же такого рода многоуровневая система не всегда способствовала эффективному управлению заводами. Как видно из этого примера, после смерти Силы Баташева, при котором сохранялось так называемое «единоначалие», его наследники не смогли осуществлять функции управления производством, передав заводы в арендное содержание почетному потомственному гражданину Якову Сорокину. И если последний уделял довольно большое внимание управлению, сохранению рентабельности производства, то его наследники занимались в основном выяснением своих имущественных прав в арендном управлении заводом и нередко прибегали к злоупотреблениям в целях обогащения. В силу целого ряда причин (в числе которых немаловажное значение имели и факторы субъективного свойства) возникла существенная задолженность частным лицам, а также горная недоимка.
Складывалась парадоксальная ситуация, своего рода замкнутый круг. С одной стороны, нестабильность производства, во многом обусловленная общеэкономической ситуацией в стране и исчерпанием в традиционной модели индустриализации ресурсов развития, порождала проблемы в управлении, а с другой – отсутствие «хозяина», «заботливой руки», неопределенность и нестабильность в структуре управления не обеспечивали условий для эффективного функционирования заводского хозяйства.
Кроме того, содержание завода на правах аренды изначально предполагало отсутствие владельческих прав у арендатора, следствием чего могли быть снижение предпринимательской активности, отсутствие стремления к совершенствованию производства. В частности, это серьезным образом задерживало техническую реконструкцию металлургических предприятий. По сведениям калужского губернского механика Тарасенкова, сделанные им арендаторам Дугненского завода Новикову и Че-репецкого завода Билибину предложения по поводу перестройки главных водяных колес были отклонены по причине скорого окончания срока аренды и неясности перспектив дальнейшего ее продолжения. Поэтому вложения денег в реконструкцию производства могли повысить прибыли арендаторов и принести некоторые дивиденды, но могли и не окупить себя [18].
Наметившиеся в первой половине XIX в. трудности администрирования заводского производства привели к появлению наряду с арендой еще и систему, акционирования. В то время акционерные формы владения и управления металлургическими предприятиями в рамках Замосковного горного округа не получили распространения. Тем не менее в 1850-х гг. мы все же обнаруживаем единичные случаи существования предприятий, основанных на объединении капиталов нескольких лиц. Так, владелец расположенного в Ардатовском уезде Ни- жегородской губернии Ташинского чугуноплавильного завода отставной гвардии поручик Александр Николаевич Карамзин, столкнувшись с серьезными финансовыми трудностями и желая основать при заводе железоделательное производство, в 1861 г. заключил контракт с майором Корпуса горных инженеров Алексеем Ивановичем Узатисом о создании между ними «полного товарищества». При этом Карамзин продал товариществу чугуноплавильный завод со всеми машинами, производственными и жилыми строениями, службами, плотиной, заготовленной рудой, «угольными площадями» и земельными угодьями (100 дес.) за 40 000 руб., первоначально введя в действие вышедшие из строя доменную печь и воздуходувную машину. С присовокуплением к этой сумме затрат на строительство железоделательного завода (50 000 руб.), а также оборотных средств (50 000 руб.) общий капитал товарищества составил 140 000 руб. [37].
А. Н. Карамзин, равно как и его наследники, оставался собственником имения, во владениях которого располагались завод и рудные месторождения. Товариществу Та-шинского завода было предоставлено исключительное право на добычу железной руды. При этом владельцу имения за каждые 125 пуд. руды с содержанием железа 40–50 % полагалось по 1 руб. 50 коп., а за такое же количество руды с содержанием 30–40 % – по 1 руб. [37].
Заключенное соглашение должно было действовать 12 лет, однако при обоюдном согласии сторон оно могло быть впоследствии продлено. Если же по истечении этого срока стороны пожелали бы выйти из товарищества, то завод должен был быть продан с аукциона, а все его дела – ликвидированы. Товарищество могло закрыться и раньше, если в течение 3 лет, считая со второго года основания железоделательного производства (14 марта 1863 г.), завод не начал бы приносить никакой прибыли. Кроме того, по истечении 5 лет с момента основания товарищества каждая из сторон могла продать свои права любому желающему [38].
Акционерной компанией являлось Общество на поставку рельсов для железной дороги Санкт-Петербург – Москва, созданное в 1842 г. Его появлению предшествовало распространение слухов о том, что для строительства железной дороги предполагалось использовать английское железо. Николай I решил их опровергнуть. Через министра финансов Е. Ф. Канкрина он сообщил, что отечественные заводовладельцы приглашаются к поставкам, даже с «выгодою против цен на английское железо» [25].
По проведенной оценке, производство железа отечественными заводами составляло к началу 1840-х гг. 6 700 тыс. пуд. в год. При условии гарантированного сбыта железа данный показатель возможно было увеличить до 8 млн. Однако отсутствие опыта такого рода производства создавало серьезные трудности. Поэтому на заседании общества было решено создать образцовое заведение по изготовлению рельсов, куда будет доставляться металл с частных горных заводов. Планировалось пригласить опытного иностранного мастера для организации работ и обучения русских мастеров этому делу. Предполагалось оснастить образцовое заведение сварочными печами, работающими на дровах, и вообще весь процесс «…сблизить с русским способом выделки железа». К поставкам приглашались все частные заводовладельцы России по желанию, но при условии внесения ими определенного денежного взноса.
Подавляющее большинство предпринимателей, участвовавших в обществе, представляли Урал. Из заводчиков Замосковного горного округа документ подписали Сергей Иванович Мальцов и Николай Мосолов, который владел заводами как на Урале, так и в центре России [26].
Был разработан устав, по которому объединение горнозаводчиков пользовалось правами «товариществ и обществ российских» и получало право иметь своих сотрудников, корреспондентов и комиссионеров как в России, так и за границей. Для управления делами общества была создана комиссия, состоящая из председателя, двух директоров и двух совещательных членов. Один раз в год проводилось общее собрание [27].
Конечно, рассмотренные предприятия еще не были акционерными в полном смысле этого слова, тем не менее их существование позволяет говорить о появлении новых форм финансирования и администрирования деятельности заводов Замосковного округа уже в дореформенный период. Во второй половине XIX в. акционирование металлургической промышленности будет происходить в гораздо больших масштабах.
Таким образом, находящиеся в ведении Замосковного горного правления частные заводы (владельческие и посессионные) имели разные формы администрирования производства. Наряду с наиболее распространенным управлением через владельцев, который выстраивал под себя систему правления, практиковались такие, как аренда, опека, казенный присмотр, акционирование.
К середине XIX в. вновь обострился вопрос о совершенствовании горного управления в русле общих тенденций рационализации административного аппарата в связи с отменой крепостного права. Ввиду столь радикальных перемен предлагались различные варианты реорганизации существовавшей системы управления промышленностью. Один из них еще в 1861 г. был высказан видным государственным деятелем, председателем московских отделений Мануфактурного и Коммерческого советов бароном А. Мейендорфом. По его мнению, главную проблему составлял недостаток информации у правительственных промышленных органов, что часто препятствовало принятию квалифицированных решений. В связи с этим он предлагал учредить «…торговые палаты в качестве посредников между государственным управлением и частною промышленностью, и периодические съезды сельских хозяев, о необходимости которых так много и постоянно говорил граф Канкрин. Такие органы доставляли бы постоянные сведения о промышленных нуждах своего края». В результате «…навязчивая, часто невежественная и бесплодная бюрократическая деятельность заменилась бы живыми органами» [19]. Что же касается конкретных действий правительства в плане поддержки промышленности, то их, по А. Мейендорфу, целесообразно было бы предпринимать в трех формах: в виде выдачи денежных пособий, организации широкой сети технического образования, а также «почетными поощрениями производителей» [19, с. 28].
Однако опыт апробирования различных моделей «горной власти» на протяжении XVIII – первой половины XIX в. свидетельствовал об устойчивой традиции регулирования горнозаводского производства посредством развертывания института регионально-отраслевого управления. Данный принцип был сохранен и во второй половине XIX – начале ХХ в. Горные прав- ления были ликвидированы лишь после октября 1917 г.
В 1865 г. Московское горное правление было реорганизовано. Это решение готовилось заранее. После освобождения рабочих от обязательного труда с передачей в 1862 г. пробирных дел в ведение казенных палат и Горного департамента за правлением остались сбор податей и техническое содействие частным заводам, что привело к реорганизации последнего и разделению его на два округа замосковных горных заводов (1-й и 2-й) с окружным инспектором во главе. С закрытием Московского горного правления большая часть дел перешла непосредственно в ведение горных инженеров [81], институт которых впоследствии получил широкое распространение по всей России.
Список литературы Деятельность Замосковного горного правления по регулированию прав собственности и форм администрирования заводского производства
- Арсентьев В. М. От протоиндустрии к фабрике: модели производственно-отраслевой специализации и механизм функционирования промышленности России в первой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья)/В. М. Арсентьев. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. -256 с.
- Арсентьев В. М. Промышленное развитие Мордовии в первой половине XIX века. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. -296 с.
- Арсентьев В. М. Экономическое развитие России в XIX -начале XX века: опыт применения модернизационной парадигмы/В. М. Арсентьев//Экономическая история. -№ 9. -2010/2. -С. 4-18.
- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ в отечественной историографии/Н. М. Арсентьев, В. М. Арсентьев, А. М. Дубодел//Металлургическая промышленность России XVIII-XX вв.: отв. ред.: проф. Н. М. Арсентьев, проф. В. В. Запарий. -Саранск; Екатеринбург: Изд. центр Ист.-социол. ин-та МГУ им. Н. П. Огарева, 2007. -С. 47-96.
- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие: моногр./Н. М. Арсентьев. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 1998. -604 с.
- Арсентьев Н. М. Инновации в промышленности России конца XVIII -начала XX в./Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2011. -№ 1. -С. 43-45.
- Арсентьев Н. М. Правовое положение рабочих Замосковного горного округа конца XVIII -первой половины XIX века в ретроспективе модернизационной парадигмы России/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2013. -№ 2. -С. 8-17.
- Арсентьев Н. М. Предпринимательство и государство в исторической ретроспективе российских модернизаций/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 18-21.
- Арсентьев Н. М. Промышленная Россия первой половины XIX века. Замосковный горный округ в планах и чертежах: моногр./Н. М. Арсентьев, A. M. Дубодел. -М.: Наука, 2004. -342 с.
- Арсентьев Н. М. Промышленное хозяйство Мальцовых XIX века в контексте теории анклавно-конгломератного развития/Н. М. Арсентьев, А. А. Макушев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 58-75.
- Арсентьев Н. М. Российские предприниматели Мальцовы: моногр./Н. М. Арсентьев, A. M. Макушев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2006. -268 с.
- Арсентьев Н. М. Экономическое положение рабочих Замосковного горного округа в первой половине XIX в./Н. М. Арсентьев//Металлургическая промышленность России XVIII-XX: отв. ред.: проф. Н. М. Арсентьев, проф. В. В. Запарий. -Саранск; Екатеринбург: Изд. центр Ист.-социол. ин-та МГУ им. Н. П. Огарева, 2007. -С. 279-327 с.
- Барков В. Д. История Василия Дмитриевича Баркова/В. Д. Барков. -Спб.; 1902. -С. 8.
- ГАВО. -Ф. 40. -Оп. 1. -Д. 14763. -Л. 104.
- ГАВО. -Ф. 600. -Оп. 1. -Д. 357. -Оп. 2. -Д. 334.
- Демиховский К. К. Приокский горный округ в конце крепостной эпохи/К. К. Демиховский//Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. -М., 1960. -Т. 1. -С. 95.
- Доклад министерства финансов, со штатами и прочими приложениями о новом образовании Горного начальства и управления Горных заводов. СПб., 1806. -С. 4.
- Журнал мануфактур и торговли. -1848. -Ч. 3. -№ 7. -С. 28.
- Мейендорф А. Производительные силы России/А. Мейндорф//Вестн. пром-сти. -1861. -Т. 11. -№ 4. -С. 27.
- Памятная книга для русских горных людей на 1863 год. -СПб., 1863. -С. 462.
- РГИА. -Ф. 37. -Оп. 3. -Д. 239. -Л. 224.
- РГИА. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 216. -Л. 5.
- РГИА. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 398. -Л. 239
- РГИА. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 486. -Л. 5-6.
- РГИА. -Ф. 44. -Оп. 2. -Д. 1198. -Л. 1.
- РГИА. -Ф. 44. -Оп. 2. -Д. 1198. -Л. 10-13.
- РГИА. -Ф. 44. -Оп. 2. -Д. 1198. -Л. 15-17.
- РГИА. -Ф. 44. -Оп. 2. -Д. 1339. -Л. 2 об.
- Свод законов.//Т. 7. Ст. 476, п. 2.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1165, л. 76-76 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1165. -Л. 12.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1165. -Л. 15.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1165. -Л. 41 об. -42.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1165. -Л. 5 об. -6.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1165. -Л. 50.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1165. -Л. 8 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1182. -Л. 10 -10 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1182. -Л. 11об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 571. -Л. 12.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1091. -Л. 3 -3 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1091. -Л. 4 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1091. -Л. 5 об. -7.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1159. -Л. 1 -2.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1159. -Л. 26.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1159. -Л. 5-5 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1159. -Л. 9 об. -10.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 1206. -Л. 51-52.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 184. -Л. 6-8.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 184. -Л. 6-8.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 575. -Л. 6-6 об., 14.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 9. -Л. 2 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. Д. 1165. -Л. 1 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. Д. 1165. -Л. 1.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Д. 1069. -Л. 12.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Д. 1094. -Л. 1 -7.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 1 об. -2.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 1.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 12 об. 13.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 14 об. -15 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 14 об., 20.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 20.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 23.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 29.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Л. 41.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1322. -Оп. 3. -Д. 59. -Л. 1-4.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1343. -Л. 3-4.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 1345. -Л. 1.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 326. -Л. 4.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 580. -Л. 22-23 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 6. -Л. 2-2 об., 11 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 6. -Л. 7-7ф об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 6. -Л. 7-7ф об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 6. -Л. 7-7ф об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 9. -Л. 2-2 об., 9.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 9. -Л. 22 об.,74 -76.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 9. -Л. 3 об. -6 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 9. -Л. 6-7.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 9. -Л. 7.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Д. 9. -Л. 9-9 об.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 2. -Л. 2.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 3. -Д. 1591. -Л. 88.
- ЦИАМ. -Ф. 2199. -Оп. 3. -Д. 58. -Л. 12 -13.
- ЦИАМ. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 189. -Л. 3.
- ЦИАМ. -Ф. 37. -Оп. 5. -Д. 189. -Л. 54, 57.