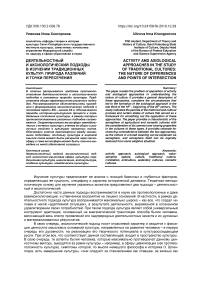Деятельностный и аксиологический подходы в изучении традиционных культур: природа различий и точки пересечения
Автор: Улинова Инна Хонгоровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается проблема противопоставления деятельностного и аксиологического подходов в понимании природы культуры. Представлена общая характеристика указанных подходов. Рассматриваются обстоятельства, приведшие к формированию аксиологического подхода в последней трети XIX - начале XX в. Обозначаются периоды историко-культурного процесса и определенные состояния культуры, в рамках которых противопоставление указанных подходов сглаживается. Охарактеризована аксиосфера земледельческих и кочевых культур с учетом ее общих и различных свойств в культурах названных типов. Обосновано снятие противоречий между названными подходами, поскольку культура в широком смысле слова может быть раскрыта через аксиосферу и сама аксиосфера может быть логично выведена из некой адаптивной ситуации.
Деятельностный подход, аксиологический подход, ценностно-смысловая сфера, культура, традиционная культура, цивилизация, антикультура, оседлые культуры, номадические культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/149133896
IDR: 149133896 | УДК: 008:130.2-028.78 | DOI: 10.24158/fik.2019.12.29
Текст научной статьи Деятельностный и аксиологический подходы в изучении традиционных культур: природа различий и точки пересечения
Изучение культуры предполагает ее анализ с позиций базисных и глубинных факторов, определяющих ее сущность, специфику и характер исторической динамики. Теоретико-методологическую основу для изучения указанных аспектов представляют два подхода – деятельностный и аксиологический.
Достаточно часто данные подходы воспринимаются в науке как противоположные и даже взаимоисключающие, и отмеченное восприятие не лишено оснований. В частности, в рамках деятельностного подхода культура воспринимается максимально широко – как все, что создал человек в некой «адаптивной ситуации», в результате деятельности, выраженной в осознанном удовлетворении своих потребностей. При таком подходе культура являет собой универсальный инструмент адаптации, основанный на внегенетической трансляции способа бытия человека, включающий весь спектр проявлений его надприродных деятельностных качеств и их духовных и материализованных результатов.
В свою очередь, аксиологический подход носит отраслевой характер и сводится к фиксации ценностно-смысловых оснований культуры, направленных на развитие человека – в первую очередь его духовности, на реализацию его творческого потенциала в культуросозидающем русле. При этом все, что соответствует данной составляющей, входит в пространство культуры. В свою очередь, те аспекты бытия человека, которые максимально противоречат данному ценностному вектору, выводятся за рамки культуры – например, в сферу цивилизации (как противоположность культуре), симптомы которой, по мысли немецкого философа и историка О. Шпенглера, есть завершение культуры, «они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным детством, засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость и каменный, окаменяющий мировой город. Они – конец, без права обжалования…» [1, с. 164].
Другим примером аксиологической отраслевизации культуры является ее противопоставление дегуманизирующей среде и проявлениям массы, которая, согласно испанскому философу и социологу Х. Ортега-и-Гассету, «не перестав быть массой, упраздняет меньшинство» [2, с. 20], превращая человека в часть безликой и опасной толпы. Кроме того, существует традиция противопоставления культуры антикультуре, которая, по мнению российского культуролога В.П. Большакова, в отличие от культуры, представляющей собой позитивный и реализуемый духовный опыт человечества, направлена против духовности, на ее обесценивание и утрату духовных ценностей [3, с. 491].
Указанная дихотомия подходов лежит в основе достаточно сильного размежевания исследовательских направлений в культурологии, оформившихся на их основе. Причем сторонники данных направлений не всегда склонны прислушиваться друг к другу, отстаивая примат того или другого подхода на уровне длящегося не одно десятилетие спора о природе культуры.
Тем не менее данные подходы могут вполне мирно сосуществовать и уживаться, поскольку между ними имеются достаточно сильные связи, подкрепленные общим предметом исследования, хотя и несколько разными проблемными и масштабными рамками его восприятия. Таковые точки пересечения в первую очередь выражены явной корреляцией между деятельностными основаниями культуры и ее ценностно-смысловой сферой.
Так, изучая культуру, в основе которой лежит определенный способ деятельности, можно вполне обоснованно и закономерно вывести общие черты ее аксиосферы. В свою очередь, анализ ценностно-смысловых оснований культуры также может стать основанием для диагностики ее деятельностных начал. В данном случае отчетливо проявляется взаимосвязь двух граней культуры, определяющих друг друга и зависящих друг от друга. В этом плане показателен круг исследовательских интересов М.С. Кагана, который, будучи наряду с Э.С. Маркаряном одним из разработчиков деятельностной теории культуры, исходя из ее системного строения, уделял особое внимание сложным связям деятельностного базиса с картиной мира и аксиосферой культуры [4], отводя картине роль «интегрального элемента» для идентификации типологического своеобразия различных культур, так как «модель мира включает в качестве непременных компонентов определенную “онтологическую гипотезу” – концепцию отношения человека к миру … и к самому себе …» [5, с. 79], а также «принципы иерархизации ценностей» [6].
Отмеченная связь адаптивной обусловленности образа жизни человека и его ценностносмысловой и мировоззренческой сфер выражается в том, что субъект, взаимодействуя с реальностью, создает ее целостный образ в обязательном порядке. Данный образ возникает вследствие фиксации человеком некоей природно-климатической регулярности в определенном пространственно-временном диапазоне, основное качество которой заключается в том, что она, отражая наиболее существенные ритмы среды, упорядочивает всю реальность. Логика выбора такой регулярности и пространственно-временные рамки образа мира, по мнению И.В. Леонова, «определяются субъектом на основании специфики проявлений конкретно-исторической реальности, с которой он непосредственно связан, а именно на основании природы основных “ритмик” вмещающей среды, напрямую влияющих на жизнь человека. Кроме того, в отмеченном процессе немаловажное место отводится изменениям “второй природы”, напрямую зависящим от степени преобразовательной активности субъекта» [7, с. 94]. Затем указанная регулярность, согласно логике соподчинения идей различного уровня, как бы «обрастает» ими, постепенно образуя «гештальт» реальности. Создаваемый «образ» мира параллельно «наделяется субъектом смыслом, а также “окрашивается” сугубо человеческими компонентами познания, а именно – психоэмоциональным, аксиологическим, этическим и эстетическим “отношением”» [8]. В итоге оформляется картина мира, включающая ценностно-смысловую сферу, соответствующую когнитивным и духовным потребностям человека, образ жизни которого связан с определенным видом деятельности.
Характерно, что в отношении изучения сущности и специфики многих культур, в частности традиционных, отмеченная выше дихотомия подходов преодолевается сама собой. Дело в том, что аксиологический подход, основы которого были заложены В. Дильтеем, Г. Риккертом и В. Виндельбандом в последней трети XIX – начале XX в., возник на фоне глобального кризиса культуры развитых в научно-техническом и промышленном плане стран с целью выделения в разные сферы положительных граней культуры и ее отрицательных феноменов, поскольку степень распространения последних в культуре Запада достигла предела, угрожающего мировой стабильности и выживанию человечества. При этом данные тенденции со временем только усиливались, делая вполне естественным исключение из пространства культуры страшных симптомов ее кризиса, особенно в первой половине XX в. и далее.
Однако относительно периода истории культур, предшествовавшего распространению симптомов западной цивилизации, либо культур, не втянутых в орбиту ее влияния, такое резкое деление на культуру и цивилизацию или культуру и антикультуру не всегда выглядит оправданным. Дело в том, что данные культуры, являющиеся по преимуществу традиционными, представляют собой адаптивные комплексы с очень высоким фактором равновесности как внутри культуры, так и в ее взаимодействии со средой. Природа этих культур, в отличие от научно-технических и промышленно развитых, не порождает перманентных кризисов, связанных со «скачкообразным» развитием и нарушением средового равновесия.
Традиционные культуры в гердеровской и гетевской традиции - это целостные «организмы», морфогенез которых имеет внутреннюю логику и полное соответствие своих составляющих [9, с. 80–81]. Отмеченные культуры транслируются на протяжении культурогенеза, сохраняя свою устойчивую матрицу или инвариант. В таком ракурсе в гармонизированных естественным ходом истории этнотрадиционных организмах отделять их «культурную» и «некультурную» компоненту не всегда целесообразно. Таким образом, противоречия между рассматриваемыми подходами сглаживаются. Однако они могут себя проявить на фоне вхождения традиционных культур в полосу модернизации и других сопутствующих процессов, и тогда вопрос фиксации и сохранения их традиционных основ может приобрести «аксиологический окрас» в противовес всем кризисным симптомам, которые угрожают сохранению своеобразия и уникальности таких культур. Соответственно, изучение традиционных культур в контексте синтеза деятельностного и аксиологического подходов вполне обоснованно и позволяет раскрыть их глубинные характеристики, определяющие организацию и облик всей системы указанных культур.
Итак, анализ деятельностных оснований многих традиционных культур вполне коррелирует с сопутствующими мировоззренческими и ценностно-смысловыми комплексами, образующими своеобразный синтез, оформившийся на протяжении культурогенеза и трансформирующийся в наши дни на фоне модернизации, глобализации, информатизации и других процессов, влияющих как на деятельностный базис, так и на аксиосферу культуры.
Изначальные деятельностные основания многих традиционных культур (номадических, земледельческих и их смешанных вариантов), во многом противоположных культурам инновационного типа, рождали соответствующую аксиосферу, выраженную в ее идеациональной направленности; в системообразующей роли фольклора, эпоса, мифов и религиозных представлений; в примате иррациональной компоненты мировосприятия над его прагматичной стороной; в почитании и обожествлении природных стихий; в традиционности и низкой степени принятия инноваций; в акценте на коллективный образ жизни и общинные ценности; в четкой иерархии социума; в почитании власти и старших; в асимметричном гендере; в примате пространства над временем; в цикличности восприятия времени или «безвременности» (по М. Элиаде); в высокой роли фольклора как одного из системообразующих начал культуры и квинтэссенции коллективного опыта; в четком следовании установленным правилам и укладу жизни. В таких культурах высока роль инвариантных паттернов во всех областях культуры, воспроизводство которых допускает вариативность, а также устных способов передачи и хранения информации.
Среди общих типологических характеристик культур, ведущих традиционный образ жизни, уместно более подробно раскрыть их коллективистскую, или общинную, компоненту. Ее важнейшей частью является система норм и ценностей, ставящая коллективный интерес выше личных, делающая коллектив или общину основным выразителем потребностей людей, а коллективный способ взаимодействия с реальностью, сохранения и трансляции культурного опыта - основой существования. Ценность коллектива формируется благодаря многим факторам. В первую очередь общинный способ адаптации к реальности связан с характером доминирующей деятельности, которая, в свою очередь, определяется особенностями климата, ландшафта, природными ресурсами и возможностью жизнеобеспечения на соответствующей территории. И там, где условия «места развития» требуют коллективного сплочения для создания оптимального способа их приспособления к среде, возникает общинная культура. При этом в разных традиционных культурах степень общинной интеграции может варьироваться в зависимости от того, какова плотность населения, насколько сильны связи между людьми, каковы особенности существующих социальных страт и т. д. Соответственно, если внешние факторы способствуют коллективной форме основного вида деятельности, формируется соответствующая ценностно-смысловая сфера общинности.
Данное обстоятельство обусловливает появление особой морали, основанной на примате коллективного над личным, с последующим переходом части ее норм в область права и их легитимацией; формируется соответствующая духовная сфера - мифология или религия, где примат и ценность общинного образа жизни получают мировоззренческое обоснование. Возникают политические институты, укрепляющие общинный уклад и нередко дублирующие его компоненты - в частности, элементы подчинения некоему единоначалу либо коллективные или совещательные формы управления, принятия решений или судебной практики. Возникают соответствующие фольклорные формы, включая эпосы, сказки, пословицы, групповые игры, танцы, песнопения и т. д., обеспечивающие и транслирующие коллективный образ жизни, включая привитие его аксиологической компоненты. В итоге община сакрализуется и обретает ярко выраженные черты субъекта, без которого себя не мыслят входящие в ее состав члены. Показательно, что одним из самых суровых способов наказания за совершённые проступки и преступления во многих культурах общинного типа было изгнание провинившегося из коллектива, т. е., по сути, уничтожение его субъектности.
Возвращаясь к перечисленным общим типологическим компонентам земледельческих и номадических культур, отметим, что они имеют массу конкретно-исторических вариаций, обеспечивая множественные отличия между аксиосферой культур соответствующих типов. Кроме того, существует ряд ценностно-смысловых параметров, которые имеют максимально различное воплощение в кочевых и земледельческих культурах, несмотря на их традиционность, коллективизм и другие общие характеристики аксиосферы.
Среди нюансов, которые отличают номадические и земледельческие типы культуры, необходимо указать, что: природа и ее стихии в кочевых культурах воспринимаются как более суровое и порой противостоящее человеку начало, нежели в культурах земледельческих; кочевники делают основной акцент на животном мире, земледельцы - на растительном, что находит яркое отражение в фольклоре; круг каждодневного взаимодействия с социумом у земледельцев шире; в кочевых культурах более строгая социальная иерархия, включая семейные, родовые и властные структуры; гендер кочевых культур более асимметричен в отношении доминанты мужского начала; пространственный аспект восприятия реальности у кочевников выражен более сильно; и т. д.
Относительно параметров, имеющих максимально различное воплощение в рассматриваемых культурах, уместно указать склонность кочевников к перемещениям и экспансии, в том числе к завоевательным походам, в отличие от земледельцев, которые, как правило, обороняют свои земли и лишь на уровне крупных государственных образований начинают расширять свои территории; образ жизни и быт кочевников более суров, а потому чаще требует проявления воинственных качеств (что нередко приводит к ложному восприятию данных культур как жестоких). Дело в том, что современному человеку, воспитанному, как правило, в традициях оседлого образа жизни, по справедливому замечанию российского историка и писателя А.А. Доманина, порой бывает «трудно понять поведенческие стереотипы образа жизни кочевника-степняка» [10, с. 4]. То, что было естественным для кочевника, сегодня нередко воспринимается как нонсенс. И далее автор приводит пример, который, по его мнению, ставит в тупик многих исследователей биографии Чингисхана. Речь о том, что при набеге меркитов Чингисхан оставил свою жену, фактически обрекая ее на неизбежное пленение, так как для нее «не хватило коня». При этом А.А. Доманин отмечает, что с современной точки зрения лошадей хватило бы всем, а поведение Чингисхана для большинства историков выглядит совершенно необъяснимым, «и начинаются разного рода спекуляции и просто фантазии: он не любил свою жену (что противоречит всей дальнейшей жизни Чингисхана); он рассчитывал, что ее не найдут или не тронут… он струсил, впал в панику и бежал, ничего не соображая… В общем, варианты можно множить, а в реальности для монгола здесь не возникало даже выбора, как поступить. Императив первый: жизнь главы семьи важнее жизни остальных ее членов. Императив второй: чтобы спастись от вражеского преследования, у главы семьи должен быть заводной конь. И все, для любого монгола абсолютно ясно, почему на девять членов семьи не хватило девяти лошадей. Одному члену семьи действительно недостало коня. Лишней в данном случае оказалась Борте (жена Чингисхана. - И. У. )» [11]. Таков пример, достаточно ярко иллюстрирующий различия ментальных структур кочевых и оседлых народов.
Кроме того, в осуществляемом типологическом сопоставлении необходимо упомянуть наличие городов как административных и частично ремесленных центров, что делает земледельческие культуры более насыщенными в научно-техническом плане. Также уместно назвать обусловленную перемещениями минимизацию материальной составляющей культуры у кочевников, что не дает ей разрастаться и усложняться.
Сочетание приведенных выше параметров в контексте смешанных типов культуры, включая как их общие, так и противоположные и нередко взаимоисключающие друг друга ценности, рождает культурные организмы, которые совмещают и гармонизируют данные противоположности, преодолевая своеобразную аксиологическую «гибридность». Такие культуры рождают особые «сплавы» или синтетические соединения деятельностных оснований с соответствующим построением аксиосферы и системы культуры в целом.
Таким образом, приведенное типологическое сопоставление, показывающее как общие, так и особенные черты номадических и оседлых культур, являет достаточную основу для фиксации и изучения изменений в сфере деятельностных оснований культуры с корреляцией соответствующих трансформаций ее аксиосферы.
Деятельность и ценности культуры настолько связаны, что попытки представить один аспект как полностью детерминированный другим являют собой лишь однозначное решение философской стороны вопроса. При этом само движение от образа жизни к ценностям и наоборот (как это можно видеть на примере традиционных культур) осуществляется вполне естественно и закономерно: культура в широком смысле слова может быть раскрыта через аксиосферу, и сама аксиосфера может быть логично выведена из некой адаптивной ситуации.
Ссылки:
-
1. Шпенглер О. Закат Европы. Гештальт и действительность. Очерки морфологии мировой истории / пер с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. М., 2006. 800 с.
-
2. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс : пер. с исп. М., 2002. 509 с.
-
3. Теория культуры / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. М., 2008. 592 с.
-
4. См.: Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. 416 с.
-
5. Художественная культура в докапиталистических формациях: структурно-типологическое исследование / науч. ред. М.С. Каган. Л., 1984. 304 с.
-
6. Там же.
-
7. Леонов И.В. Морфогенез гештальтов мира-как-истории в номадических, земледельческих и ремесленных культурах // Теория и практика общественного развития. 2014. № 9. С. 92–97.
-
8. Там же.
-
9. Бондарев А.В., Леонов И.В. Теоретико-методологические подходы к изучению памятников культурного наследия (на примере дворцово-паркового ансамбля Царского Села). Статья первая // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 6 (86). С. 78–87.
-
10. Доманин А.А. Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники. 2-е изд., испр. и доп. М., 2014. 428 с.
-
11. Там же.
Список литературы Деятельностный и аксиологический подходы в изучении традиционных культур: природа различий и точки пересечения
- Шпенглер О. Закат Европы. Гештальт и действительность. Очерки морфологии мировой истории / пер с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. М., 2006. 800 с
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс: пер. с исп. М., 2002. 509 с
- Теория культуры / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. М., 2008. 592 с
- Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. 416 с
- Художественная культура в докапиталистических формациях: структурно-типологическое исследование / науч. ред. М.С. Каган. Л., 1984. 304 с
- Художественная культура в докапиталистических формациях: структурно-типологическое исследование / науч. ред. М.С. Каган. Л., 1984. 304 с
- Леонов И.В. Морфогенез гештальтов мира-как-истории в номадических, земледельческих и ремесленных культурах // Теория и практика общественного развития. 2014. № 9. С. 92-97
- Леонов И.В. Морфогенез гештальтов мира-как-истории в номадических, земледельческих и ремесленных культурах // Теория и практика общественного развития. 2014. № 9. С. 92-97
- Бондарев А.В., Леонов И.В. Теоретико-методологические подходы к изучению памятников культурного наследия (на примере дворцово-паркового ансамбля Царского Села). Статья первая // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 6 (86). С. 78-87
- Доманин А.А. Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники. 2-е изд., испр. и доп. М., 2014. 428 с
- Доманин А.А. Монгольская империя Чингизидов. Чингисхан и его преемники. 2-е изд., испр. и доп. М., 2014. 428 с