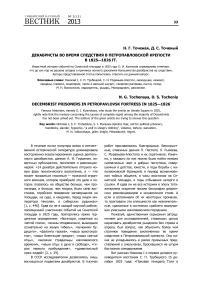Декабристы во время следствия в Петропавловской крепости в 1825-1826 гг.
Автор: Точеная Н.Г., Точеный Д.С.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.
Бесплатный доступ
Известный историк событий на Сенатской площади в 1825 году О. И. Киянская справедливо отмечает, что до сих пор не решена загадка о причинах полного раскаяния большинства декабристов на следствии. Авторы представленной статьи попытались ответить на данный вопрос.
Николай i, с. п. трубецкой, с. и. муравьев-апостол, малодушие, каземат, кандалы, клевета, лицемерие,
Короткий адрес: https://sciup.org/14113814
IDR: 14113814
Текст научной статьи Декабристы во время следствия в Петропавловской крепости в 1825-1826 гг.
В течение почти полутора веков в отечественной исторической литературе доминировала восторженно-экзальтированная оценка деятельности декабристов, данная А. И. Герценом, известным публицистом, писателем и революционером: «14 декабря действительно открыло новую фазу политического воспитания, и — что может показаться странным — причиной огромного влияния, которое приобрело это дело и которое сказалось на обществе больше, чем пропаганда, и больше, чем теории, было само восстание, геройское поведение заговорщиков на площади, на суде, в кандалах, перед лицом императора Николая, в сибирских рудниках» [1, с. 446]. Едва ли не в каждой научной работе, посвященной участникам событий на Сенатской площади в 1825 году, повторялись яркие гер-ценские определения: «богатыри, кованные из чистой стали», «воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель», «мученики будущего», «фаланга героев», «наша аристократия», «наши блестящие предки», «наши святые отцы», «великие страдальцы николаевского времени», «наши отцы в духе и свободе», «герои первого пробуждения», «удивительный кряж людей» [2, с. 29].
В СССР исследователям дозволялось лишь восхищаться подвигами декабристов. В тысячах работ прославлялись благородные, бескорыстные, отважные деяния П. Пестеля, К. Рылеева, С. Муравьева-Апостола и их соратников. Конечно, у каждого из них можно было найти немало симпатичных черт и добрых поступков, совершенных в детстве, юности, в годы борьбы с наполеоновской Францией, в период возникновения тайных обществ, в часы восстания на Сенатской площади, в годы отбывания каторги и ссылки. И едва ли не все историки в эпоху тоталитаризма искренне писали биографии дворянских революционеров в иконописном стиле. А если и вспоминали об их некоторых промахах, то трактовали эти оплошности как незначительные, сделанные в состоянии крайнего возмущения ужасными николаевскими порядками.
Пожалуй, единственным серьезным затруднением для исследователей, ставивших целью нарисовать декабристов рыцарями без страха и упрека, был вопрос, как объяснить более чем странное поведение заключенных во время следствия в Петропавловской крепости. Оно никак не укладывалось в рамки привычных представлений о смельчаках, бросившихся на штурм бастионов самодержавия.
Вот рассказ Николая I о первом допросе руководителя восстания С. П. Трубецкого 15 декабря 1825 года: «Призвав генерала Толя в свидетели нашего свидания, я велел ввести Сергея Петровича и приветствовал его словами:
— Вы должны быть известны о происходившем вчера. С тех пор многое объяснилось, и, к удивлению и сожалению моему, важные улики на вас существуют, что вы не только являлись участником заговора, но должны были им предводительствовать. Хочу вам дать возможность хоть несколько уменьшить степень вашего преступления добровольным признанием всего вам известного; тем дадите мне возможность пощадить вас, сколько возможно будет. Скажите, что вы знаете?
— Я невинен, я ничего не знаю, — отвечал он.
— Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение; вы — преступник; я — ваш судья; улики на вас — положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас; вы себя погубите — отвечайте, что вам известно?
— Повторяю, я не виновен, ничего не знаю.
Показывая ему конверт, я сказал:
— В последний раз, князь, скажите, что вы знаете, ничего не скрывая, или — вы безвозвратно погибли. Отвечайте.
Он еще дерзче мне ответил:
— Я уже сказал, что ничего не знаю.
— Ежели так, — возразил я, показывая ему развернутый его руки лист, — так смотрите, что это? (То был план восстания, подготовленный С. П. Трубецким. — Авт .).
Тогда он, как громом пораженный, упал к моим ногам в самом постыдном виде» [3, с. 105—106]. В этот же день С. П. Трубецкой сообщил генералу Толю весьма подробные сведения о планах и действиях заговорщиков.
29 декабря 1825 года Н. М. Муравьев, давший к этому времени развернутые показания о подготовке к восстанию, в смятении писал своей жене: «Увы! Да, мой ангел, я виновен, — я один из руководителей только что раскрытого общества. Я виноват перед тобой… Я причинил горе тебе и всей твоей семье. Все твои проклинают меня. Мой ангел, я падаю к твоим ногам, прости меня» [4, с. 15—16].
Не проявил стойкости и С. И. Муравьев-Апостол. Объективную характеристику его поведения на первом допросе в первой половине января в 1825 году дал в своих воспоминаниях Николай I: «Ослабленный от тяжкой раны и оков, он едва мог ходить… мы его посадили. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действия и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал:
— Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну се- кунду до того забыться, чтоб считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть — преступным злодейским сумасбродством?
Он поник голову, ничего не ответил, но качал головой с видом, что чувствует истину, но поздно» [3, с. 110]. С. И. Муравьев-Апостол в начале следствия написал императору покаянное письмо [5, с. 31], что никак не говорило о твердости его убеждений и наличии сильной воли.
Пал духом С. Г. Волконский. 12 февраля 1826 года он, бичуя себя, горестно заявил Николаю I: «Всемилостивейший Государь! Возможно ли мне утверждать Вас заверениями о полноте моего раскаяния, тогда как сознания мои оказывают Вам мое клятвопреступление… Повергаю на суд Ваш все мои преступления, но примите с милосердием то, что ныне по чистой истине пред вами исполняю… Верноподданный и раскаивающийся преступник князь Сергей Волконский» [6, с. 206—207].
14 марта 1825 года П. Г. Каховский сделал заявление, повергшее в смятение всю царскую семью: оказывается, К. Ф. Рылеев поручил ему либо убить императора 14 декабря на Сенатской площади, либо, переодевшись в форму гренадерского конвойного офицера, застрелить его в Зимнем дворце [7, с. 273]. Эти показания привели фактического руководителя Северного общества на эшафот. Впрочем, и сам К. Ф. Рылеев не проявил твердости во время допросов и выдал всех ему известных товарищей по заговору [8, с. 109].
Можно более не рассказывать о поведении дворянских революционеров в Петропавловской крепости. Только Ф. П. Шаховской, Н. Р. Цебри-ков и О. В. Горский не признали себя виновными [9, с. 346]. Остальные не продемонстрировали ни мужества, ни честности, ни элементарной порядочности. Многие из них оговаривали, а порой просто топили друг друга. Никто в дальнейшем не признался в малодушии, проявленном на следствии. В своих мемуарах они умалчивали о личной трусости, позорной слабости, но дружно следовали известной спортивной формуле: «Лучшая защита — это нападение». Их записки лишены самокритичности, зато переполнены клеветой на членов Следственного комитета. Практически все мемуаристы-декабристы намеренно сгущают краски, живописуя «кошмарные» условия содержания в камерах.
С. П. Трубецкой с возмущением вспоминал о методах расследования, применяемых представителями царской администрации: «Следствие ведено по образцу самых низких полицей- ских инстанций — обман, ложь, насмешки, угрозы, наручные железа, хлеб и вода вместо всякой другой пищи — все это имело место; в первые шесть недель тревожили покой арестантов нарочно производимым громким шумом и стуком, а к допросу всегда поднимали сонных. Следствие продолжалось шесть месяцев; некоторые протестовали, что показание и признание были вынуждаемы насильственно, но это осталось без внимания. Комендант старался выставить как дело, так и лица в самом мерзком и злонамеренном виде» [10, с. 228].
Полностью был солидарен с С. П. Трубецким М. С. Лунин: «Все средства употреблены были, чтобы раздражать и волновать их (арестантов. — Авт .). Члены Следственного комитета предлагали вопросы на жизнь или смерть; требовали ответов мгновенных и обстоятельных; обещали именем государя помилование за откровенность, отвергали оправдания, объявляя, что оные будут допущены впоследствии перед судом; вымышляли показания; отказывали иногда в очных ставках и часто, увлеченные своим рвением, прибегали к угрозам и поношениям, чтобы вынудить показание или признание на других. Кто молчал или по неведению происшествий, или от опасения погубить невинных, того в темнице лишали света, изнуряли голодом, обременяли цепями. Врачу было поручено удостовериться, сколько осужденный мог вынести телесных страданий. Священник тревожил дух, дабы исторгнуть и огласить его исповедь. Многие из узников были поражены помешательством ума» [11].
Абсолютное большинство декабристов, повествуя о пребывании в Петропавловской крепости, пытались воспроизвести по сути дела те или иные мозаичные картинки дантовского ада. «Обвиняемые содержались, — пишет М. А. Фонвизин, — в самом строгом заточении в крепостных казематах и беспрестанном ожидании и страхе быть подвергнутыми пытке, если будут упорствовать в запирательстве. Многие из них слыхали из уст самих членов следственной комиссии такие угрозы… Ночью внезапно отпиралась дверь каземата; на голову заключенного накидывали покрывало, ведя его по коридорам и по крепостным переходам в ярко освещенную залу присутствия. Тут по снятии с него покрывала члены комиссии делали ему вопросы и, не давая времени образумиться, с грубостью требовали ответов мгновенных» [12, с. 57]. У Н. И. Лорера обстановка в камере и ведение следствия вызвали чувство омерзения: «Неумолимый каземат скоро принял меня, и я долго не мог заснуть. К довершению всего огромные водяные крысы, рыжие, большие, были так смелы, что ходили по мне, и я всю остальную ночь провел в защите от этих гадких животных… Следственная комиссия была пристрастна с начала до конца. Обвинение наше было противозаконно. Процесс и самые вопросы были грубы, с угрозами, обманчивы и лживы» [13, с. 370—371].
-
А. Е. Розен в воспоминаниях старается подвести читателей к выводу о том, что допросы в Петропавловской крепости оказались страшнее средневековых истязаний: «Надевали наручники, кандалы, на некоторых и то и другое одновременно, уменьшали пищу, беспрестанно тревожили сон их, отнимали последний слабый свет, проникающий через амбразуру крепостной стены в окошечко с решеткою из частного переплета и железных пластинок, и согласитесь, что эти меры стоили испанского сапога британского короля Якова II и всех прочих орудий пытки. Пытка при Якове продолжалась несколько минут, часов, иногда в присутствии короля, а наша крепостная пытка продолжалась несколько месяцев» [8, с. 155].
Мнение А. Е. Розена о том, что тяжкие условия пребывания в Петропавловской крепости надо квалифицировать как фактическую пытку, разделяли и другие мемуаристы-декабристы. «Фельдъегерь, — сообщает А. М. Муравьев, — сдает меня на руки плац-майору, который, не говоря ни слова, ведет меня в грязную, сырую, мрачную и тесную камеру. Поломанный стол, мерзкий одер-кровать и железная цепь, один конец которой был вделан в стену, составляли ее меблировку... Я остаюсь в каземате без движения, лишенный света, без питания в продолжение восьми дней. По утрам тюремщик в сопровождении часового приносил мне хлеб и воду… У многих на руках и ногах были оковы… Пытки нравственные были применены. Заключенные получали иногда раздирающие душу и сердце письма от своих несчастных родственников, которые, будучи обмануты внешними любезностями, воздавали громкую хвалу великодушию того, кто его никогда не проявлял (Николай I. — Авт .).
…Многие из узников лежали больные, многие потеряли рассудок, некоторые покушались на жизнь. Полковник Булатов уморил себя голодом… Обвиняемый, затравленный, терзаемый без пощады и милосердия, в смятении давал свою подпись» [14, с. 132—133].
В унисон со своими товарищами, только более эмоционально, воспроизвел душераздирающие сцены следствия А. В. Поджио: «Как объяснить, что люди чистейших чувств и правил, связанные родством, дружбой и всеми почитаемыми узами, могли перейти к признанию на погибель всех других?.. Какие были пущены средства, чтобы достигнуть искомой цели (разъединить это целое, так крепко связанное, и разбить его на враждующие друг другу части)? Употреблялись пытки, угрозы, увещевания, обещания и поддельные, вымышленные показания! Пытки заключались в наручных цепях. Они наложены были на Якубовича, Петра Борисова. Других во время следствия сажали в особенные царские казематы». В результате, по убеждению А. В. Поджио, затворники-декабристы Петропавловской крепости прибегали нередко к попыткам самоубийства: «…глотали пуговицы, ели стекло, бились головой об стену, морили себя голодом и, наконец, вешались» [15, с. 366—367].
-
В. С. Толстой считал, что царские следователи шли на все, чтобы добиться у дворянских революционеров необходимых показаний: «Подвергали или действительной пытке или притворной, заставляли стонать в соседнем каземате или от действительных страданий или нарочно притворно, чтобы настращать содержащихся в соседних казематах» [16, с. 45]. Наверное, по части обличительного пыла по отношению к членам Следственного комитета всех превзошел Н. Р. Цебриков. Эти злодеи превратили, по его мнению, мужественного П. И. Пестеля в жалкую тень человека: «Он говорил очень тихо, был после болезни, испытавши все возможные истязания и пытки времен первого христианства! Два кровавых (широких) рубца на голове были свидетельством этих пыток! Полагать должно, что железный обруч, крепко свинченный на голове, с двумя вдавленными широкими желобами, оставил на голове его кровавые рубцы» [17, с. 429—430].
Большинство мемуаристов-декабристов уверяют, что тяжесть их пребывания в Петропавловской крепости усугублялась жестокостью, вероломством и коварством того, кто руководил следствием, — Николая I. «14—15 декабря 1825 года начались аресты, — негодовал А. М. Муравьев. — Какими красками описать отвратительный вид, который представлял царь и его дворец в эти часы, посвященные мести?! Можно было видеть офицеров в полной форме со связанными за спиной руками, с оковами на ногах, являвшихся перед новым императором! А он с угрозами и проклятиями на устах допрашивал их, даруя прощение, которое не выполнил… Он находил в своем окружении прекрасную помощь своим мстительным инстинктам» [14, с. 129].
А. В. Поджио клял этого царя на чем свет стоит: «Николай, выслушав меня, взошел в бешенство и велел меня судить военным судом и расстрелять в 24 часа» [18, с. 149]. «Мастером распределения мученических наказаний не до смерти» назвал императора Н. Р. Цебриков [17, с. 431].
Итак, каждый декабрист, вспоминая о периоде пребывания в Петропавловской крепости, лакировал — и при этом весьма искусно — свое поведение, представляя его героическим на фоне глумления гнусных опричников в чудовищных средневековых казематах. Но такого рода мемуары явно противоречили сухим строкам протоколов допросов в Петропавловской крепости. Поэтому советские исследователи, скованные коммунистической идеологией, вынуждены были пуститься во все тяжкие, чтобы оправдать и даже романтизировать грязные поступки дворянских революционеров в дни следствия.
Декабристы, «мыслящие возвышенно», «легкоранимые и уязвимые», «проявлявшие временную слабость», «несколько растерявшиеся», противопоставлялись Николаю I, «волку в овечьей шкуре», «средоточию человеческого зла, лицемерия и ханжества», этакому шекспировскому Яго, невероятно двуличному и изворотливому. «Николай, — писал М. Н. Покровский, глава советских историков в 20-е годы XX века, — сам вел следствие и обнаружил большие жандармские способности. С первого же допроса он успел вытянуть массу имен и подробностей заговора от его участников, после неудачи растерявшихся еще более. Им ловко подавали надежду, что все кончится пустяками, что виновных самое большое отставят от службы или пошлют на житие в их деревни. А когда все выведали, учинили самую свирепую расправу» [19, с. 153].
Тезисы о беспримерном маккиавелизме, о чудовищной беспринципности и необыкновенных театральных способностях Николая I стали лакомым куском для многих последователей М. Н. Покровского. Э. Н. Бурджалов следующим образом объяснял тактику российского императора: «Вслед за подавлением восстания началась кровавая расправа с декабристами. Новый русский царь, начав свою деятельность с расстрела, теперь выступил в роли тюремщика и палача… Всех сколько-нибудь крупных участников заговора Николай I допрашивал у себя лично в Зимнем дворце. Стремясь добиться откровенных показаний, он действовал всеми средствами: вызывал к дворянскому достоинству арестованных, обещал смягчить участь в случае откровенных показаний, угрожал немедленной расправой. Николай, как актер, при допросе каждого обвиняемого надевал особую маску. Он представлялся то грозным самодержцем, то гражданином государства, то сторонником конституции и чуть ли не единомышленником декабристов» [20, с. 185].
Образ Николая I, «волка в овечьей шкуре», сумевшего обхитрить не только декабристов, но и их жен, оказался близок Э. А. Павлюченко. «Женщины, — рассуждала она, — жившие в ту пору скорее сердцем, чем разумом, заботились прежде всего об облегчении участи близких, уповая при этом на волю Божию и милосердие государя. Справедливости ради следует отметить, что и сами дворянские революционеры в большинстве своем не смогли преодолеть этот искус: сидя в Петропавловской крепости, многие из них возлагали надежды на Бога и царя, и мало кто разгадал игру Николая во время следствия» [4, с. 22]. В. В. Кунин пришел к выводу, что император мог бы успешно соперничать в злодействе и коварстве с приспешниками Игнатия Лойолы: «Николай I и его помощники искусно стравливали арестованных между собою, добиваясь взаимных оговоров» [21, с. 22].
Рахматуллин М. был убежден, что декабристов ни в коем случае нельзя обвинять в недостойном поведении на допросах. Просто дворянские революционеры — образец мужества, правдивости и порядочности — стали жертвой бессовестного интригана: «29-летний император вел себя до такой степени хитро, расчетливо и артистично, что подследственные, поверив в его чистосердечие, делали даже по самым снисходительным меркам немыслимые по откровенности признания… Прикидываясь почти их единомышленником, он сумел вселить в них уверенность, что он и есть тот правитель, который воплотит их мечтания и облагодетельствует Россию. Именно тонкое лицедейство царя-следователя объясняет сплошную череду признаний, раскаяний, взаимных оговоров подследственных» [22, с. 106].
Обеляя неблаговидное поведение декабристов во время допросов, большинство отечественных историков старательно подчеркивают, что следователи использовали методы телесного воздействия на обвиняемых. М. В. Нечкина, ведущий исследователь темы движения дворянских революционеров в 40—50-х годах XIX века, полагала, что «заковывание в “железа” было формой физической пытки» [23, с. 131]. В. А. Федоров считал, что заключенным в Петропавловской крепости в 1825—1826 гг. несправедливо бросать упреки в малодушии, по- тому что они находились в тяжелейших условиях физического воздействия со стороны мощной репрессивной машины самодержавия» [8, с. 3].
«Говорят, — предполагает Б. Йосифова, — что Пестеля пытали, истязали, что на лице его видели следы зубцов и обручей» [24, с. 158]. Витиевато высказал нечто подобное и Н. Эйдельман: «Долго держались слухи о применении настоящих пыток. П. А. Вяземский, на старости лет уже видный сановник и консерватор, прочитав в VII книге герценовской «Полярной звезды» слова Михаила Бестужева о том, что «в комитете стращали пыткой», написал: «Если стращали пыткой, то пытки, вопреки многим слухам, не было. Это важное показание, освобождающее правительство и совесть Николая от тяжелого нарекания». Однако заковывание в цепи, одиночное заключение и другие меры, в сущности, тоже были пыткой» [25, с. 95].
Можно с уверенностью утверждать, что итоговую оценку условий пребывания декабристов в Петропавловской крепости дал известный российский историк В. Г. Тюкавкин: «Следствие и суд над декабристами проводились под личным руководством царя, с нарушением всех законов, с проявлением неслыханной жестокости и грубого произвола» [26, с. 218]. Никак нельзя согласиться с такой квалификацией действий Николая I и Следственного комитета. Даже поверхностное, но более объективное, не чернобелое знакомство с мемуарами декабристов говорит о том, что следствие над дворянскими революционерами было гуманным и проводилось в точном соответствии с законами того времени.
Вот как А. В. Поджио ответил на вопрос о том, пытали ли заключенных в Петропавловской крепости: «Враг наш личный — Николай — отдавал нам справедливость, как он ни был злопамятен, как он ни был неумолим и жесток! Никогда, однако же, не подвергал он нас унизительному испытанию… Он мог употребить такое средство, но не пустил его в ход. Спасибо ему!» [15, с. 385].
Вопреки устоявшемуся мнению, что декабристов морили голодом в период следствия, некоторые заключенные отмечали в мемуарах, что питание, конечно, не было роскошным, но, как говорится, жить можно было. А. М. Муравьев и Н. Р. Цебриков, как мы уже констатировали, жаловались на скверную еду, а вот А. Е. Розен был другого мнения: «Пищу давали простую, но здоровую и достаточную» [27, с. 40]. Князь С. П. Трубецкой конкретизировал информацию товарища по несчастью: «Поутру давали чай с белой булкой, обедать — суп и щи, говядину и кашу или картофель, вечером — чай и ужин» [28, с. 51].
Жилищные условия декабристов тоже были не столь мрачными, как описывают их обличители николаевского режима. (Например, Б. Йо-сифова сообщает нам, что казематы крепости напоминали «гробы», заключенные содержались там в полной темноте [24, с. 121]. Наверное, это достаточно реалистичная оценка.) Но имеет право на существование и другой взгляд. Н. М. Муравьев, обитатель одной из камер, писал своей жене в начале 1826 года: «У меня хорошенькая комната на втором этаже с большим окном. Я отделен от соседа деревянной стеной, что дает нам возможность беседовать целый день, и я даже передаю через него мои мысли соседям с другой стороны… Я роздал все, что вы мне посылали, и вот почему все израсходовалось так быстро. Мы с соседом придумали играть в шахматы. Каждый из нас сделал себе доску и маленькие кусочки бумаги. Из своего окна я вижу, как проходит мой шурин (Захар Чернышов. — Авт .). Он чувствует себя хорошо. Пришли мне, пожалуйста, апельсинов и варенья, мне доставляет развлечение быть поставщиком моих соседей» [4, с. 18]. (Кстати, о цитрусовых вспоминал и Н. И. Лорер. Однажды ему захотелось апельсинов, потому что «постоянно сохло во рту». Уже через час унтер-офицер, надзиратель Соколов принес этому заключенному целую корзину апельсинов [13, с. 377]. Думается, можно поверить рассказу С. В. Ска-лон, дочери российского писателя, о житье-бытье своего младшего брата А. В. Капниста в Петропавловской крепости: «В отчаянии и тоске он звал несколько раз в течение дня часового единственно только затем, чтобы видеть, что дверь отворяется и что к нему входит живое существо. Обедать ему давали щи, кашу, кусок жаркого и рюмочку водки. От скуки он вымерил шагами каземат и ходил в нем всякий день по семь верст… Вскоре после заключения он попросил письменно свою тетку Д. А. Державину прислать ему Библию, что она и исполнила; и в продолжение трех месяцев прочел ее трижды от доски до доски. Потом он просил ее же прислать ему трубку и табаку, что она и исполнила, испросив на это позволения. И тогда заточение показалось ему легче» [29, с. 348].
Мемуары С. В. Скалон, как, впрочем, и другие воспоминания, высвечивают еще один вывод: утверждение большинства исследователей истории декабризма о полной изоляции заключенных в Петропавловской крепости явно преувеличено. А. О. Смирнова-Россет, занимавшая видное положение в петербургском свете, зафиксировала любопытное зрелище, раскрывающее важную деталь взаимоотношений власти и арестованных декабристов: «Так как все заговорщики сидели в казематах, то Нева была покрыта лодками, родные подплывали, отдавали им записки и разную провизию. На это добрый Бенкендорф смотрел сквозь пальцы и великий князь Михаил Павлович тоже» [30, с. 159]. Официальные свидания близких с заключенными были обычным явлением. Об этом пишут в своих воспоминаниях М. Н. Волконская и сестра Е. И. Трубецкой З. И. Лебцельтерн. Последняя воссоздала картину первой встречи Екатерины Ивановны и Сергея Петровича Трубецких в Петропавловской крепости. «Перед пасхальными праздниками, — сообщает нам З. И. Лебцель-терн, — графиня Потемкина, к которой относились при дворе с благоволением, написала государю письмо, в котором умоляла допустить ее и мою сестру в крепость, чтобы поздравить с праздником дорогого им узника. Обе они могли немного утешиться, проведя с князем вечер в крепости, правда, в присутствии коменданта, который приказал принести самовар и попросил сестру разливать чай, чтобы муж ее хоть на мгновение почувствовал себя как дома. Сестра навсегда сохранила воспоминание об этом вечере и без конца рассказывала нам о нем тысячи мельчайших подробностей» [31, с. 159].
В апреле 1826 года увиделась с мужем и М. Н. Волконская. Об этом она написала в своих воспоминаниях: «Я была еще очень больна и чрезвычайно слаба. Я выпросила разрешение навестить мужа в крепости. Государь, который пользовался всяким случаем, чтобы высказать свое великодушие… и которому было известно слабое состояние моего здоровья, приказал, чтобы меня сопровождал врач, боясь для меня всякого потрясения» [32, с. 38—39].
Никто из заключенных в Петропавловской крепости не мог пожаловаться на жестокое и грубое обращение с ними надзирателей. Н . И . Лорер тепло вспоминал об одном из них: «Я должен непременно посвятить несколько строк моему сторожу. Под грубой серой шинелью этого человека билось сердце золотое, крылась душа добрая, симпатичная… Этот человек много служил моему утешению» [13, с. 377]. Добрым другом предстал перед декабристами священник П. Н. Мысловский. И ему тоже Н. И. Лорер выразил в мемуарах глубокую признательность: «Постом, в один день, ко мне неожиданно вошел… протоирей Казанского собора. Он сделался утешителем, ангелом-хранителем наших мате- рей, сестер и детей, сообщая им известия о нас. Никогда не говорил он со мною о политических делах, но постоянно утешал надеждою на лучшую будущность и ободрял слабеющий дух мой. Я храню глубокое уважение до сих пор к этому почтенному служителю алтаря» [13, с. 374].
Так что безнравственность поведения декабристов во время допросов нельзя объяснять суровыми условиями содержания, недобросовестностью и вероломством представителей царской администрации. О. В. Эдельман одна из первых правильно отметила, что члены Следственного комитета не подтасовывали показания заключенных и проявили необходимую добросовестность [33, с. 35, 43].
Глубоко ошибается П. Н. Зырянов, который утверждает, что в борьбе с декабристами Николай I проиграл «в моральном отношении» [34, с. 377]. Наоборот, император во время следствия был честен, порядочен, не лицемерил, не притворялся, не был актером. Он обвинял дворянских революционеров в нарушении военной присяги, в подготовке планов цареубийства, в попытке совершения государственного переворота, в смертельном ранении героя Отечественной войны 1812 года генерала Милорадовича, в выводе солдат и матросов обманным путем на Сенатскую площадь, в обстреле его свиты, в составлении планов уничтожения всей семьи Романовых.
Во время следствия Николай I показал себя рыцарем. Он был в нравственном отношении на голову выше декабристов. Это явилось главной причиной раскаяния большинства дворянских революционеров. Более чем символичен короткий отрывок из мемуаров В. И. Штейнгеля, побывавшего в конце ноября 1856 года в Петербурге: «Въехав в столицу… на третий день поспешил поклониться праху блаженной памяти государя Николая I; сердце сжалось, обильные слезы с тихим рыданием облегчили грудь: казалось, и из гроба повторил государь: «Давно простил тебя!» [35, с. 212].
-
1. Герцен А. И. Соч. Т. 3. М., 1956.
-
2. Машинский В. Бесстрашное слово // Герцен А. И. Соч. Т. 1. М., 1975.
-
3. Записки Николая // Николай Первый и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. Т. 1. М., 2002.
-
4. Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании. М., 1984.
-
5. Киянская О. И. К истории восстания Черниговского пехотного полка // Отечественная история. 1995. № 6.
-
6. Киянская О. И. Южное общество декабристов. М., 2005.
-
7. Патрик О’Мара. К. Ф. Рылеев. Политическая биография поэта-декабриста. М., 1989.
-
8. Федоров В. А. Своей судьбой гордимся мы. М., 1988.
-
9. Мемуары декабристов. Северное общество (Примечания). М., 1981.
-
10. Трубецкой С. П. Записки 1849—1853 гг. // Николай I: личность и эпоха. СПб., 2007.
-
11. Записки М. С. Лунина // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
-
12. Декабристы и Сибирь. Альбом. М., 1988.
-
13. Лорер Н. И. Записки моего времени // Мемуары декабристов. М., 1988.
-
14. Записки А. М. Муравьева «Мой журнал» // Мемуары декабристов. М., 1988.
-
15. Поджио А. В. Записки // Русские мемуары. 1800— 1825. М., 1989.
-
16. Замечания В. С. Толстого на полях и в тексте книги А. Е. Розена «Записки декабриста» // Декабристы. Новые материалы. М., 1955.
-
17. Цебриков Н. Р. Воспоминания о Кронверкской куртине // Русские мемуары. 1800—1825. М., 1989.
-
18. Поджио А. В. Как нас судили // «И дум высокое стремленье». М., 1980.
-
19. Покровский М. Н. Избранные произведения. Кн. 3. М., 1967.
-
20. Бурджалов Э. Н. История СССР. Ч. 2. М., 1940.
-
21. Кунин В. В. А. В. Поджио // Русские мемуары. 1800—1825. М., 1989.
-
22. Рахматуллин М. Император Николай I и его царствование // Наука и жизнь. 2002. № 1.
-
23. Нечкина М. В. Декабристы. М., 1984.
-
24. Йосифова Б. Декабристы. М., 1983.
-
25. Эйдельман Н. Обреченный отряд. М., 1987.
-
26. Тюкавкин В. Г. Предисловие // России верные сыны. М., 1988.
-
27. Декабристы. Новые материалы. М., 1955.
-
28. Записки С. П. Трубецкого // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
-
29. Скалон С. В. Воспоминания // Русские мемуары. 1800—1825. М., 1989.
-
30. Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.
-
31. Лебцельтерн З. И. Екатерина Ивановна Трубецкая // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988.
-
32. Записки княгини М. Н. Волконской. Красноярск, 1975.
-
33. Эдельман О. В. Воспоминания декабристов о следствии как исторический источник // Отечественная история. 1995. № 6.
-
34. Зырянов П. Н. Николай I и его Империя // История России. Т. 2. М., 2001.
-
35. Записки В. И. Штейнгеля // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
Список литературы Декабристы во время следствия в Петропавловской крепости в 1825-1826 гг.
- Герцен А. И Соч. Т. 3. М., 1956.
- Машинский В. Бесстрашное слово//Герцен А. И. Соч. Т. 1. М., 1975.
- Записки Николая//Николай Первый и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. Т. 1. М., 2002.
- Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании. М., 1984.
- Киянская О. И К истории восстания Черниговского пехотного полка//Отечественная история. 1995. № 6.
- Киянская О. И. Южное общество декабристов. М., 2005.
- Патрик О'Мара. К. Ф. Рылеев. Политическая биография поэта-декабриста. М., 1989.
- Федоров В. А. Своей судьбой гордимся мы. М., 1988.
- Мемуары декабристов. Северное общество (Примечания). М., 1981.
- Трубецкой С. П. Записки 1849-1853 гг.//Николай I: личность и эпоха. СПб., 2007.
- Записки М. С. Лунина//Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
- Декабристы и Сибирь. Альбом. М., 1988.
- Лорер Н. И. Записки моего времени//Мемуары декабристов. М., 1988.
- Записки А. М. Муравьева «Мой журнал»//Мемуары декабристов. М., 1988.
- Поджио А. В. Записки//Русские мемуары. 1800-1825. М., 1989.
- Замечания В. С. Толстого на полях и в тексте книги А. Е. Розена «Записки декабриста»//Декабристы. Новые материалы. М., 1955.
- Цебриков Н. Р. Воспоминания о Кронверкской куртине//Русские мемуары. 1800-1825. М., 1989.
- Поджио А. В. Как нас судили//«И дум высокое стремленье». М., 1980.
- Покровский М. Н. Избранные произведения. Кн. 3. М., 1967.
- Бурджалов Э. Н. История СССР. Ч. 2. М., 1940.
- Кунин В. В. А. В. Поджио//Русские мемуары. 1800-1825. М., 1989.
- Рахматуллин М. Император Николай I и его царствование//Наука и жизнь. 2002. № 1.
- Нечкина М. В. Декабристы. М., 1984.
- Йосифова Б. Декабристы. М., 1983.
- Эйдельман Н Обреченный отряд. М., 1987.
- Тюкавкин В. Г. Предисловие//России верные сыны. М., 1988.
- Декабристы. Новые материалы. М., 1955.
- Записки С. П. Трубецкого//Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
- Скалон С. В. Воспоминания//Русские мемуары. 1800-1825. М., 1989.
- Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.
- Лебцельтерн З. И. Екатерина Ивановна Трубецкая//Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988.
- Записки княгини М. Н. Волконской. Красноярск, 1975.
- Эдельман О. В. Воспоминания декабристов о следствии как исторический источник//Отечественная история. 1995. № 6.
- Зырянов П. Н. Николай I и его Империя//История России. Т. 2. М., 2001.
- Записки В. И. Штейнгеля//Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.