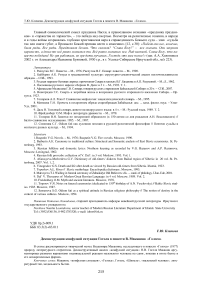Деконструкция конфузной ситуации гоголя в повести В. Маканина "Голоса"
Автор: Климова Тамара Юрьевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается творческий метод Владимира Маканина, исследующего в повести «Голоса» (1977) природу литературного стереотипа. Деконструктивный анализ «конфузной ситуации» Н.В. Гоголя Маканин аргументировал разными вариантами индивидуальной реакции маленького человека на сдвиг, показав в итоге бытие в его незакрепленных формах.
Маканин, "конфузная ситуация", "голоса", гоголь, "шинель", "маленький человек", литературный тип, модальность бытия
Короткий адрес: https://sciup.org/148178484
IDR: 148178484 | УДК: 8р.2+809.1
Текст научной статьи Деконструкция конфузной ситуации гоголя в повести В. Маканина "Голоса"
В одной из метафор Маканина творчество уподобляется стакану воды, собранному по капле: внешне глядится как единое целое, и «уже очень неохотно признаешь, что эта капля внесена тем, а эта другим, а эта третьим, теперь они все твои, потому что ты их собрал» [1, с.575]. Гоголь в маканинском «стакане» присутствует по закону «круговорота воды» в тексте культуры: и по условиям прямого обращения, и опосредованно – через систему скрытых сигналов, как то: выбор героя и его оценка, отражение абсурда российской действительности, двойственность хронотопа, тяготение к образам дороги и движения в целом.
Повесть Маканина «Голоса» (1977) эксплицирует гоголевский текст мотивами «конфузной ситуации» и «маленького человека», что в обозначенной проблематике следует принимать как первичное оз начаемое . Диалог с Гоголем аргументирован собственными примерами-сюжетами – означающими, которые вступают в коммуникацию с одним и тем же событием конфуза. Отсюда и фрагментарная композиция повести с фиксированным центром.
Конфузная ситуация, или ситуация несумения, оценена Маканиным как гениальное открытие Гоголя: благодаря ему стало возможным выявить человека, не обобщая, – при «сдвиге с места» он непременно проявляется индивидуально. Родственность «конфузной ситуации» и темы «маленького человека» Маканин видит в том, что первое есть верный способ обнаружить второе.
Жанрово оформляя конфуз то как трагедию роковой ошибки («Шинель»), то как авантюрный анекдот («Коляска»), то как назидательную притчу («Нос»), то как социальный гротеск («Ревизор», «Мертвые души»), Гоголь производил свой отбор решений проблемы, рискуя выходить из границ реалистического метода. Вопрос в том, почему мастер вернулся к своему веку – к типажу: «Как понять его?» [2, с.94].
С целью понимания Маканин прибегает к методологии деконструкции, исключающей внеполож-ность интерпретатора тексту. Классик сам дал повод для последующего переоформления своего сюжета, заложив эзотерический подтекст в основание житейского случая и предоставив читателю сориентироваться в рамках либо жития, либо притчи, либо собственно анекдота.
Исходная гоголевская позиция в «Шинели» соответствует параметрам жития, а «вечный титулярный советник» – подслеповатый, лысоватый праведник с геморроидальным цветом лица – изначально берется повествователем под опеку: над такими «уже изрядно натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться» [3, т. 3, с.121]. Сочувствие обеспечено изображением страданий и крайней униженности человека, искусившегося выйти к не свойственному ему бытию. Внутреннее пространство Башмачкина распадается на «до» и «после» шинели. Житийный герой служил с любовью: «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра?»; «не предавался никакому развлечению», «уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу» [3, т. 3, с.126, 137], посвящая переписыванию казенных бумаг и свой досуг.
В своем истинном предназначении переписчика Акакий Акакиевич репродуцирует мир, счастливым упорством ежедневных усилий свидетельствуя его неизменную полноту. И даже имя героя (от греч. Акакий – «отрицающий зло») отвечает принципу буквального воспроизведения: наречен точно так же, как и его отец, и теперь он дважды «отрицающий зло». Любая попытка выйти из границ репродукции – «переменить кое-где титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье» – это катастрофа для сознания героя и для самого мира, их незаконное «перетворение». Не рискуя сдвинуть мир собственным словом, Акакий Акакиевич и изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения» [3, III, с. 129].
Знание истинной цели своего служения и терпеливое усердие поддерживают стабильность прецедентного мира и до поры обеспечивают неуязвимость персонажу, защищенному внеслужебным «покровительством», именно поэтому ежедневные «окрики по горизонтали» – насмешки и злые издевательства сослуживцев – не вызывают в нем конфуза и не наносят принципиальных ран его бытию. Однако Баш-мачкину предстоит пережить не только испытания тяготами быта, но и искушение новой шинелью. Ис- куситель Петрович, «как только узнал, в чем дело, точно его будто его черт толкнул. “Нельзя, – сказал, – извольте заказать новую”« [3, III, с.132]. Шинель самовольно включается Башмачкиным в порядок бытия. Уже сами мысли о ней искажают его мученическое предназначение: умеющий прежде «быть довольным своим жребием», Акакий Акакиевич служит теперь не буквам-фаворитам (алфавиту Бога), а вещи, потому лишается покровительства сверху: «чуть было даже не сделал ошибки» [3, III, с. 134]. А с получением шинели и вовсе нарушает привычный распорядок: «Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле» [3, III, с.137]; затем позволил себе выйти вечером на улицу – и не куда-нибудь, а на званый ужин к тем, от кого прежде «какая-то неестественная сила оттолкнула его» [3, III, с. 123]. Вышел герой и из границ значения своего имени, покусившись заодно на имя отца (в подтексте – Отца). Если следовать за гоголевским «первичным означаемым», то Башмачкин на прием к частному, минуя квартального, отправился, искусившись по чужому совету в другой раз, и вовсе не был уверен в правомочности своих новых претензий, о чем свидетельствует его «смиренный вид» и психологическое состояние просителя: «заблаговременно почувствовал надлежащую робость», «сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил», «стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа», «вспотел ужасным образом», «обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять».
Значительное же лицо, ошибочно принятое героем за «последнюю инстанцию», само пребывает в конфузном состоянии – место получил недавно, оно, как новый мундир, не «приносилось»: «Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон» [3, III, с.143]. Индивидуальное «проявление» значительного лица в конфузе спровоцировано неподлинным «образцом» для подражания: кому в нашем отечестве придет в голову, что именно значительному и надлежит защищать незначительных и в этом его «служение»? Напротив, «так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника» [3, III, с.142]. Так что и выбирать особо не из чего. Значительное лицо искусственно создает свою подлинность по сложившейся модели: отгораживает себя от просителей лестницей, комнатой присутствия с капельдинерами и тем самым знаменитым окриком: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?». Сама мысль, что «слово его может лишить даже чувств человека», вызывает у него упоение, но опять же не дает уверенности в собственном праве – отсюда и запоздалое раскаяние.
Конфуз Акакия Акакиевича Маканин прокомментировал без малейшей анекдотической подоплеки: не как униженную просьбу найти вещь, а как «великую тяжбу» [3, III, с.86]. В маканинских расследованиях кража шинели будто бы не нарушает внешнего равновесия мира: шинель украли – а «жизнь идет, фабрики дымят …с утра восходит по-прежнему солнце, потом, слава богу, обед, потом ужин» [3, III, с. 85]. Мир почему-то не содрогнулся от утраты. Но нарушено равновесие внутреннее, и в походе Башмач-кина вверх по лестнице виден импульс навести порядок в мире, не терпящем импровизаций: мне чужого не надо – отдайте мое. Коллежский асессор Ковалев, заметим, своему загордившемуся носу также напоминает: «…мне кажется… вы должны знать свое место» [3, III, с. 46].
«Маленький», по Маканину, живет с загодя заниженным представлением о своих полномочиях: «Не мешаю ли я важному какому делу своей мелкой просьбой?..», не нарушаю ли весь ход и налаженный порядок вещей? …Как бы заранее решенный вопрос о том, что ты и твое дело мельче и много мельче, чем кабинетное, подтачивает тебя, в этом и глубина конфузной ситуации» [2, с.86]. Это уже биологически закрепленная матрица личности. С таким недоверием к расположенности мира Башмачкин, едва пришел, уже был сконфужен, и у писарей был сконфужен, а уж у значительного лица «сконфузился совершенно».
Вместе с тем Акакий Акакиевич, утративший только что обретенное с шинелью новое место, начинает активно хлопотать о его возвращении. И у Маканина он вовсе не унижен, напротив – непривычно деятелен: «отнюдь не трусил перед начальством», «не робел холопски, но не умел разговаривать на равных»; «…рассердился и никак не меньше» [2, с.84]. Маканин дословно цитирует именно ту фразу Гоголя, которую будет достраивать в собственной концепции: «надо показать характер и сказал наотрез, что ему лично нужно видеть самого… что они не смеют его не допустить… и что вот как он на них пожалуется, так тогда они увидят»« [2, с. 84] – т.е. произнес не характерные в приемных для маленького человека слова. И далее: «вошел ведь к нему – всякий ли войдет? …сказал свое, стал даже перечить» [2, с. 86].
И хотя у Гоголя он вовсе не перечил, и характер показал не значительному лицу, а писарям, пригрозив жалобой от отчаяния, но позиция культурного героя была обозначена именно Гоголем. Таким образом, в исходном означаемом Маканин усилил акцент на героических параметрах личности Башмачкина.
Одна из маканинских комбинаций конфуза – история отца Кольки Мистера – импровизируется уже в первом фрагменте «Голосов». «Травмированный войной, слабовольный, придавленный женой», «смирный, однако с внутренней и тщательно скрываемой жаждой – дожить жизнь как жизнь» [2, с.12] – персонаж этот абсолютно соответствует своей жалкой типажной сути. Образ аранжирован в элегических модуляциях чеховской темы: отец Кольки Мистера экзистенциальную неустроенность жизни выражает в категориях упущенного времени:
– За плечами вся жизнь – а я еще не отдохнул…
– Прожита жизнь, а я ничего не видел…
– Жизнь прожил, а еще и не любил никого по-настоящему…
– Я никогда не ловил сетями рыбу. Никогда…
– Я никогда не видел города Гурьева [2, с.13].
В общем, жизнь проходит, а счастья нет. Осознание зря прожитой жизни предполагает наличие тонкой души и культурного кругозора. Однако горизонт жизни преподавателя техникума не расширяется и тогда, когда герой все же едет на рыбалку в город Гурьев или когда в очередной раз влюбляется в «студенточку». Из путешествий он возвращается не обогащенный впечатлениями, а виноватый – сконфуженный. В раздумьях, стоит ли студенточка его любви на «весь остаток жизни», проходит и сама любовь. За болезненным желанием «чудака и контуженного» прожить собственную жизнь виден стереотип чужой счастливой жизни, и больному Кольке нет места в запланированных мероприятиях счастья: «Отец считал, что он стоил лучшей доли… что он стоил лучшего сына» [2, с.13].
Витая в романтических облаках, в конкретной жизненной ситуации отец ведет себя неумело и неуместно. Пьяненький, в своей беспомощной жалости он пытается агонизирующему сыну… спеть. На усиление хрипов умирающего «певец» реагирует анекдотически: «Ладно, не буду, не буду… Я понимаю: ночь… Люди спят… Я понимаю» [2, с.20]. Анекдотизм задается смещением акцентов с главного (сын умирает) на незначительное ежедневное (люди спят), равно как «сговором с божинькой, в которого не верил «ни на полкопейки»: «Короче: чтоб ты встретил его хорошо. Ясно?.. Ты понял?» [2, с.22].
Сетования отца Кольки Мистера: никогда не видел, не ловил, не любил… – ничтожны в сравнении с тем «никогда», которое открывается в смерти его сына. Его персональный конфуз обнаруживает безликую нечуткость к повседневной жизни, несумение услышать в обыденности высокое и значительное и тем более найти слово для его выражения. Этот персонаж поверхностно присовокуплен к бытию, но в этом и его драматизм, если не трагедийность: и в страдании не всякому открывается его истинное предназначение, увы, даже в генетическом варианте отцовства. Только одержимый копатель, невинный ребенок и творящее «я» у Маканина могут испытывать «ликующее освобождение и чувство достигнутости».
Вариант авторской самокорректировки «маленького человека» задан щемящей нотой «неудачника и ничтожества» Шустикова. Как и Акакию Акакиевичу, Шустикову «по размеру» и незначительная фамилия, и маленькое место в жизни: портфель, угол рабочего стола, минимум претензий к себе и к жизни. Однако уже с самого начала из-под пера писателя выходит принципиально другой «маленький» – «жалкий мужчина нашего века». Он пришел из анекдота: «много раз слышали, много раз смеялись, а тут увидели вроде бы воочию, в живом виде, а не в анекдоте» [2, с.26]. В силу артикуляции жанрового условия, тема «испытаний» Шустикова дана Маканиным пародийно: ее определяет не бытийное измерение – голод, холод, ясное понимание «своего места», а мелкие неурядицы частной жизни: «ей не нравились углы в коммуналке», или «я ей в любви не нравился», нет денег и никогда не будет, нет друга, а соседи по коммуналке не уважают.
Соответственно, нет у него и «сродного» труда1, оправдывающего собственную никудышность: «Бумаги у него лежали в некотором беспорядке, впрочем, как у всех», «в контору он приходил всегда вовремя, а уйти старался минут на десять пораньше, опять же, как все». Герой лишен собственной сферы бытия: ни творчества, которым у Маканина определяется метафизическая глубина отношения к миру, ни сложности характера, ни даже самой маленькой тайны: «над собой не подшучивал», «напрочь был лишен и фантазии, и хоть маломальского актерства» [2, с.25]. Все содержание наверху – идеальная плоскость. Зауряден, но, подчеркнем, как все.
В современном Башмачкине автор отмечает лишь наследственную страсть к словам: молодой человек с упоением рассказывает о своих неудачах. Жалкий в глазах окружающих, он не стыдится, не испытывает наслаждения своей униженностью, не пользуется ею как товаром – попросту ее не замечает. «Бездарно серьезным» голосом без агрессии он обнажается в слове, как герои Достоевского.
Самое удивительное в рассказах Шустикова то, что его самооценка абсолютно адекватна: он не сказал ни единого слова неправды о себе. Его роль в сюжете обусловлена задачей индивидуально проявить окружение: «После такой вот мелочи, как разговор с Шустиковым, что-то на минуту нарушалось, сбивалось с колеи» [2, с.27]. «Гуманное место» в конфузе Маканина обязывает к нравственной реакции на вопрос гоголевского качества: оправдывают ли наши «ближние» свое человеческое предназначение – сострадать не такому, как они сами? Так кто-то изначально открещивается от «евнуха»: «не подумайте, что я из того же теста, что и он» [2, с.27]. В других конфуз проявляет неловкость от осознания собственной полноценности.
Вся история Шустикова активно переживается лишь в период ее новизны. Оберегая здоровое в себе начало, первыми сдаются мужчины. Женщины держатся дольше, но даже самая упорная – Валентина Сергеевна – в итоге расправилась с сослуживцем, причем именно в гоголевской риторике, обронив мимоходом «значительному лицу», что жалкий сослуживец – «малый без царя в голове»1. Затем выясняется, что Шустиков был единодушно предан сослуживцами и исчез из конторы и из сюжета.
Очередной «нехоровой» вариант уточнения бытия в реакции на конфузный сдвиг представлен Маканиным в 12-м фрагменте повести, где «великая тяжба» Акакия Акакиевича умышленно трансформирована в «микроскопически мелкую стычку»: летом на отдыхе «мой приятель сказал грубое словцо некоему мужчине» [2, с.86], который оказался начальником. Писатель этот эпизод метафорически обыгрывает, изображая маленькую войну за место под солнцем в пародийной деформации известной «подвижной игры»: нужно было «успеть занять стул – стульев в столовке не хватало». В записи смещения акцентов этой конфузной ситуации вновь просматривается посредник ХIХ в. – Чехов. В рассказе «Смерть чиновника» Иван Дмитрич Червяков своим поведением продемонстрировал присущий мелкому служащему трусливый «изгибец души» и «окончательно сконфузился» – помер на диване, не снимая вицмундира. Помер от окрика совсем иной модальности: не «как ты посмел!», а «сколько же можно издеваться из-за пустяка!». На этом фоне смерть бедного Башмачкина с его «не примеченной никем жизнью» особо выпукло проявляется как значительное событие, исполненное высоким трагическим пафосом.
Герой конфузной ситуации Маканина – Виктор, «сам по себе тоже человек не маленький», вступил в перепалку с директором крупного НИИ по неведению и по привычке «не маленького человека» заставить себя уважать окриком. Эта инерция на какое-то время сохраняется в нем: даже узнав, кому надерзил, он «хмыкнул и победоносно улыбнулся: так, мол, ему, толстому, и надо» [2, с.87]. Но конфуз возник незамедлительно: «Виктор сам не знал, что за пьеса в нем разыгрывается …это происходило в нем невольно». Герой подсознательно «вспоминает» поведение Червякова, который в попытках изжить неловкость превращается из «прекрасного экзекутора», чиновника по хозяйственной части, в мучителя-экзекутора, преследующего статского генерала своими назойливыми извинениями. В ситуации «отраженного конфуза» Виктор точно так же начинает обхаживать важное лицо, ищет общения с ним и даже любит его, разыгрывая свою многозначительность «отточенными не нашим веком репликами». Очевидно, что ситуация отражает также чеховский рассказ «Толстый и тонкий». Лестница в маканинском примере обозначена дважды с явным умыслом напомнить о значении иерархии в конфузе: когда рассказчик разоблачает «игру» Виктора, тот его не конфузится – не начальник.
Как и Чехов, Маканин убирает мотив окрика «значительного лица» подчиненному: «оклик, почти окрик» принадлежит самому Виктору: «грубо, с хрипотцей… с некоторой наглинкой… вдруг окликнул». Результат провокации оказался нулевым – начальник Колобов к «фитюльке» не снизошел, он даже не догадывался.
Правомерен вопрос: зачем этот толстячок нужен Виктору, из каких «глубин» всплывает импульс потрогать за рукав, приблизиться к «значительному лицу»? Уж не природное ли раболепие? Однако как только исчезает раздражитель (уезжает толстячок), Виктор снова становится «нормальным». В этом эпизоде отчетливо видно, что литература у человека в крови не меньше, чем психологические стереотипы самозащиты, и Виктор неосознанно примеряет то шинель Башмачкина, то вицмундир Червякова, провоцируя бытие на воспроизведение трагической матрицы, т.е. по привычке определяя себя не по собственному размеру.
Авантюрная версия «конфузной ситуации» в составе «Голосов» воспроизводится в истории Сереги в 13-й главе. Этот фрагмент усиливает мысль о том, что испытывать конфуз (от лат. confusio – замешательство, смущение, неловкость) может только тот, в ком заложено понятие о норме, границах поведения, в ком совпадают внешние запреты с внутренними. Этот маканинский вклад в развитие конфузной ситуации опосредован в повести отсылкой к другим гоголевским предтечам «потомка аристократа» Сереги – к Пифагору Пифагоровичу Чертокуцкому, Хлестакову и Ноздреву.
Сходство с Чертокуцким, «одним из главных аристократов Б… уезда» [3, III, с. 154], правда, титулом и ограничивается – причастность обладателя невиданной коляски к плутам Маканин оспаривает: Чертокуцкий не типаж, потому что ему «и похмельно, и стыдно, как бывает похмельно и стыдно банально честному…» [3, III, с. 93]. Основная мета плута – это как раз «сумение» не сконфузиться: «Ноздрев стал бы и дальше врать, и хамить, и лезть, к примеру, в драку, а Хлестаков бы, соответственно, стал нести еще большую околесицу …поминутно вводя в образовавшийся конфузный прорыв верные ему тридцать пять тысяч курьеров» [2, с.91- 92].
Серегин «дар» – ноздревского размаха: «Из него прёт…, прёт хамство, дикость, бесшабашность, дурь, он большой, разумеется, мастер выпить, мастер подраться, мастер нести чушь» [2, с.94], мастер ввести любого в неимоверный конфуз. Чтобы рассказать, что успел Серега натворить за вечер и за ночь, понадобится «перечень, отчасти даже неприличный»: сосед «в ужасе», гости «смеются несколько нездоровым смехом», один ушел с поврежденным глазным яблоком, другой с переломанной ключицей; девушки после совместного вечера «стыдились всех там присутствовавших… не могли смотреть друг другу в глаза» и даже «втихую друг от друга… плакали ночами» [2, с.96]. А Сереге хоть бы хны. «Гогочущий и хлобыстающий водку стаканами», он не способен оконфузиться, как не конфузится необузданная природа своей варварской силы.
В попытках объяснить, как цивилизация обошла Серегу, Маканин предлагает игровую аргументацию генеалогического древа персонажа, отсылая к неправдоподобной истории древнего мира. Исторические «раскопки» в литературной родословной Сереги обнаруживают ближайшего родственника в 4-й главе I тома «Мертвых душ», где повествователь изящно репрезентирует читателю Ноздрева: «Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории… или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели [3, V, с.70] .
У Маканина предок Сереги тавро-скифского происхождения ни много ни мало споил Ахиллеса. Он также озвучен в партитуре амикошонства Ноздрева и Хлестакова: «…без лишних церемоний приходил к Ахиллесу вновь и вновь, отшвыривал ногой его любимую черепаху, похлопывал коротко мифического героя по плечу: “Не кисни… Это, брат, все хреновина”« и потчевал его водкой из грелки. Все дети Ахиллеса, естественно, были похожи на праотца Сереги, и на российской почве спившемуся рогоносцу Ахиллесу никогда бы не стать героем, не спасись он бегством в далекую Грецию.
Один из явных приемов маканинской игры – это домашняя интимность отношений «на короткой ноге» вымышленных персонажей с подлинными героями истории. Так, «достоверность» событий подтверждается цитатами из Буало и Тацита. Однако и ссылка на трактат историка – мистификация. Источник взят в вольном переложении1, и маканинский Тацит рассматривает героя пристальней и индивиду-альнее, чем принято в очерке «общественного устройства». Этот исторический экскурс, очевидно, необходим для того, чтобы читатель смог убедиться в том, что долгие века цивилизации бессильны изменить что-нибудь в природе такого вот Сереги, тем более заподозрить какую-либо цель в его пришествии на землю. Однако сама Серегина витальная энергия, о которую разбиваются все точные медицинские и исторические прогнозы, лишает этот вывод абсолютного пессимизма.
Неисчерпаемость вариантов индивидуального проявления обычного человека в конфузной ситуации заставляет Маканина обращаться к гоголевскому открытию еще не один раз. Так, гоголевский дискурс в прозе Маканина переоформляется в повести «Человек свиты» (1982) и в романе «Андеграунд, или герой нашего времени» (1998), где конфуз переживается рефлектирующим сознанием в экзистенциальной реакции на сдвиг.
Таким образом, в «Голосах» несумение личности соответствовать задаваемым ею для себя границам обнаруживается у Маканина вследствие конфуза, работающего на психологическое, социальное или экзистенциальное понижение статуса личности. То есть это всегда «скверный анекдот», переживаемый в рамках «серьезного» модуса художественности – драматического, трагического или элегического. В алгоритме Маканина сюжет начинается в зоне анекдота. Затем ситуация сама иронически остраняется посредством тщательной фокусировки внимания на качестве «исходного бытия» с тем, чтобы быть заново остраненной. Однако возникающая цепь частных случаев задает не реалистическую объемность мира посредством его удостоверения разными примерами, а указывает на отсутствие закрепленной структуры бытия.
Конфуз обыгрывается в качестве «аршина» личности, отражая концептуальную идеологию литературы Х1Х в. Однако героев разного «размера» автор жалеет одинаковой жалостью, ставя под сомнение саму правомерность измерения «маленького» по требованиям «большого», что выдает в нем художника другого века и другого метода. Маканин вывел обыкновенность к проявлениям бесконечной модальности бытия. Его персональная формула конфузной ситуации – перевертыш знаменитого определения басни А. Потебней («постоянное сказуемое при переменном подлежащем») – воспроизводит методологию самопоясняющего деконструктивистского мышления.
Маканинский метод воспроизводит взаимное прорастание текстов реальности и культуры, инициируя истолкование одного текста посредством другого. Тексты культуры нуждаются в до-спрашивании, а понимание осуществляется во времени, отсюда возврат к старым сюжетам и проблемам, «сериация» собственных аргументов и даже частичное наложение этих принципов мышления на метод Гоголя. После отказа от типажей великий классик вернулся к «своему веку» именно потому, что испугался раскачивания мира, за него это сделали Чехов, экзистенциалисты и постструктурализм. Бессильный закрепить бытие в сколько-нибудь определенных параметрах, Маканин в частичном самоповторе задает что-то вроде герменевтической модели описания мира, в параметрах которой логично описывать и самого Маканина.
Н.В. Перепелицына. Жанровая специфика романа Ю. Буйды «Город палачей» в свете пространственно-временных отношений