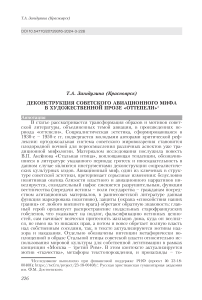Деконструкция советского авиационного мифа в художественной прозе "оттепели"
Автор: Загидулина Т.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается трансформация образов и мотивов советской литературы, объединенных темой авиации, в произведениях периода «оттепели». Соцреалистическая эстетика, сформировавшаяся в 1930-е - 1950-е гг. подвергается молодыми авторами критической рефлексии: ортодоксальная система советского мировоззрения становится плодородной почвой для переосмысления различных аспектов уже традиционной мифологии. Материалом исследования послужила повесть В.П. Аксёнова «Стальная птица», воплощающая тенденции, обозначившиеся в литературе указанного периода: гротеск и иносказательность в данном случае являются инструментами деконструкции соцреалистических культурных кодов. Авиационный миф, один из ключевых в структуре советской эстетики, претерпевает серьезные изменения: безусловно позитивная оценка близости властного и авиационного нарративов нивелируется, созидательный пафос сменяется разрушительным, функции вестничества (передачи истины - воли государства - гражданам посредством агитационных материалов, в раннесоветской литературе данная функция маркирована позитивно), защиты (охрана «спокойствия наших границ» от любого внешнего врага) обретают обратную знаковость: главный герой организует распространение поддельных старофранцузских гобеленов, что указывает на подлог, фальсификацию истинных ценностей, сам начинает всячески притеснять жильцов дома, куда он вселился, не имея на то никаких прав, а потом и вовсе обретает полную власть над собственным соседями, так, в тексте актуализируются мотивы надзора и наказания. Отдельно обозначены интенции метафорически воплощенной в образе Стальной птицы советской власти относительно использования мировой культуры для собственной легитимации в рамках концепции «Москва - третий Рим». В этом контексте актуализируется мотив «ткачества», метафоры текстопорождения, и пропаганды - тотального распространения «текстов»-гобеленов, что позволяет говорить о деконструкции одной из ключевых функций ортодоксального авиатора - вестничества - и профанировании дискурса в целом. Таким образом, авторская стратегия В. П. Аксёнова обнажает тенденцию к разрушению соцреалистического канона и в частности - авиационного мифа.
Соцреализм, гротеск, мифопоэтика, авиационный миф, литература
Короткий адрес: https://sciup.org/149146743
IDR: 149146743
Текст научной статьи Деконструкция советского авиационного мифа в художественной прозе "оттепели"
Постановка проблемы. Цель настоящей статьи — рассмотрение процесса деконструкции традиционного соцреалистического авиационного мифа в литературе эпохи «оттепели» на материале повести В.П. Акс ё нова «Стальная птица»: анализ трансформации функций авиационных образов в художественном тексте, а также эволюции взаимоотношений властного и авиационного нарративов в рамках исследуемой проблематики.
Авиационный дискурс в русской, а позже советской литературе начал складываться до революции («Аэро-пророчество» В. Каменского, «Авиатор» А. Блока, «Полет» Л. Андреева, «Позолоченные пилюли» А. Аверченко, «Одесса» И. Бабеля, «Уточкин» А. Куприна, «Авиатор» В. Ходасевича и др.), однако четкие формы приобрел в 30-е гг. XX в. в рамках культуры соцреализма. С авиацией связаны выстраивание ментальной карты молодого Советского государства, репрезентация новых моделей социального взаимодействия, а также формирование канонической системы персонажей. В рамках дискурса, понимаемого нами как «совокупность тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в дискурс, обращены так или иначе к одной общей теме», при этом содержание дискурса выявляется интертекстуально [Чернявская 2006, 176], раскрывается советский авиационный миф, подвергающийся трансформации вместе с соцреалистическим каноном. Летчик — центральная фигура авиационного дискурса.
Авиатор органично встроился в ортодоксальную мифологию («Небо и земля» В. Саянова, «Советские соколы» И. Ольховского, «Сказ о полярных летчиках» М. Голубковой, «Былина о героях» В. Адамова, «По-колен-борода и ясные соколы» М. Крюковой, «Сказка про белую вед-медь и Шмидтову бороду» Д. Кедрина, «Первые перелеты через ледовитый океан» Г. Байдукова, «Завоевание Северного полюса» Ю. Фучика и др.), занял свое место на вершине идеологической иерархии, наряду с другими героями советского «эпоса». По X. Гюнтеру, сталинская эпоха знает четыре категории героев: герой социалистического труда (к этой группе относятся летчики, полярники, ученые, стахановцы), герой-воин (революционеры, герои Гражданской войны), герой-политический деятель, герой-жертва [Гюнтер 2000a, 746]. С 1930-х гг. герой выкристаллизовавшегося канона — плоть от плоти порождение культуры 2 (в терминологии В. Паперного), которую «как бы переполняет здоровая физиологическая радость, бодрость — во всяком случае, она видит себя именно такой» [Паперный 2011, 165], культура 2 в этом смысле противопоставляется культуре 1, где фигура летчика сближается с образом артиста, циркача, жизнь которого может оборваться внезапно и бессмысленно, примеры мы находим в текстах Л. Андреева («Полет»), А. Блока («Авиатор»), где присутствует мотив отречения / освобождения от собственного тела, итогом которого является физическая смерть, важно отметить, что цель полетов — выступление перед публикой. Однако уже в 1930-е гг. летчик — фигура, ассоциирующаяся с волей государства рабочих и крестьян и существующая для того, чтобы эту волю воплощать, это продемонстрировано в текстах, посвященных рекордным перелетам («Записки штурмана» М. Расковой, «Первые перелеты через ледовитый океан» Г. Байдуков и др.), спасению челюскинцев («Как мы спасали челюскинцев», куда вошли очерки А. Ляпидевского, С. Леваневского, М. Слепнева, В. Молокова, Н. Каманина, М. Водопьянова, И. Доронина, «Записки летчика» М. Бабушкина и др.), а также в неканонических произведениях, например, в пьесе М. Булгакова «Адам и Ева», где акцентируется внимание на полной подчиненности авиатора Дарагана государству. Летчик — в некотором смысле эталон, стать которым, однако, может каждый гражданин большой страны [Сидорчук 2022]. Так, совершенно неслучайна номинация «сталинские соколы», подчеркивающая идеи персонификации власти. Симптоматично, что с сентября 1941 г. по декабрь 1956 г. издавалась газета «Сталинский сокол», после она была переименована в «Советскую авиацию», а в 1960 г. — закрыта.
Кроме того, образ авиатора в рамках соцреалистического дискурса характеризуется лиминальностью, а также избранностью. Способность находиться в пограничном состоянии — между небом и землей — дает летчикам особый статус, они уже не совсем люди, но советские сверхлюди. В текстах периода становления канона авиатор совмещает в себе функции вестничества — распространяет государственную идеологию в физическом смысле — развозит агитационную литературу, знакомит рабочих и крестьян с волей власти и актуальной политической повесткой (К. Минаев «Летуны», 1926; М. Зощенко «Агитатор», 1926 и др.); защиты границ молодого советского государства от любых попыток проникновения внутрь чуждой идеологии (П. Герман «Авиамарш», 1923; М. Крюкова «Сказание о Ленине», 1939 и др.); освоения / присвоения новых территорий (Д. Кедрин «Сказка про белую ведмедь и Шмидтову бороду», 1937; Ю. Фучик «Завоевание северного полюса», 1937 и др.). Вестничество к середине 1930-х гг. отходит на второй план. Защитная функция актуализируется в текстах, посвященных Великой Отечественной войне (С. Михалков «Советские бомбовозы», 1941; М. Чечнева «Самолеты уходят в ночь», 1961 и др.).
К 1960-м гг. авиация становится совершенно обыденным явлением — уже в конце 1950-х гг. регулярные рейсы осуществлялись в 14 стран, в крупных и не только городах СССР были аэропорты. Тогда же претерпевает трансформацию властный дискурс. Соответственно, изменяется статус летчика в общественном сознании, начинают транслироваться иные модели образов; эстетические и идеологические основания, заложенные в раннесоветской культуре, подвергаются критике.
В настоящем исследовании речь пойдет о репрезентации авиационного мифа в литературе периода «оттепели». Осуждение культа личности, репрессий повлекло за собой общественный резонанс, на который отозвались молодые писатели. Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий вписывают этот период в историко-литературный этап протяженностью в четыре десятилетия — от 50-х гг. до конца XX в., характеризующийся наличием общей тенденции к расширению кризиса соцреалистического эстетического сознания и поиску векторов трансформации соцреализма.
Литературоведы выделяют две стороны феномена «оттепельной» культуры — просветительский пафос и «эзопов» язык, способствовавшие «разработке изощренных художественных ходов, усложнению языка, восстановлению связи с традициями условных “отстраненных” форм.» [Лейдерман, Липовецкий 2003, 94]. Иносказательность и гротеск в полной мере воплотились в повести В. Аксёнова «Стальная птица», что обусловило жанровое своеобразие текста. Кроме того, сам писатель отмечал сатирическую направленность произведения: «Пишу сейчас сатиру, повесть о человеке, который превращается в “стальную птицу”. Кажется, я тебе немного рассказывал об этом — лифт, вестибюль и т.д.» [Аксёнов 2015, 123].
В центре сюжета повести В. Акс ё нова «Стальная птица» фигура Попенкова — Стальной птицы, которая появляется в доме по Фонарному переулку в 1948 г. По его словам, ранее он жил в котловане Дворца Советов, одного из наиболее ярких образцов культуры 2, который должен был быть построен на месте взорванного в 1931 г. Храма Христа Спасителя, однако дальше ямы строительство мощного символа торжества ленинских идей дело не пошло: помешала война. Символически же обозначился контраст между воображаемой вертикалью дворца, увенчанной памятником Ленину, и возникшим на этом месте котлованом, впоследствии ставшим бассейном.
Сам топос котлована чрезвычайно насыщен смыслами — это метафорическое чрево, порождающее Стальную птицу — Попенкова. Образ котлована, ямы, рва сопряжен с мотивами смерти, загробного мира, ада, вместе с тем он является своего рода пограничьем, пространством безвременья: «Вот уже год <.> то есть, простите, вот уже неделю я живу в котловане Дворца Советов» [Акс ё нов 2014, 23].
Так, Попенков получает статус существа хтонического и вместе с тем лиминального: «лиминальность часто уподобляется смерти, утробному существованию» [Тернер 1983, 169]. «Пороговость» образа Попенкова неоднократно обыгрывается в тексте: он все время находится в переходных пространствах — котловане, подъезде, лифте, а затем и вовсе селится в парадном.
Маркером пограничного статуса персонажа является также амбивалентность его природы — человек — стальная птица, что связано с мотивами трансформации человеческого тела, актуализировавшимися еще на первых этапах существования советской культуры. В 1920—1930е гг. подобные метафоры (образ Попенкова — буквализация метафоры «стальная птица») могли означать своеобразный «захват партией тела авиатора»: «Социализм преодолевает фрустрацию отчуждения путем механизации физической оболочки человека» [Загидулина 2019, 165]. Наметившаяся в 1930-е гг. тенденция к созданию тоталитарной утопии социальной гомогенизации [Липовецкий 2012, 820], реализовавшаяся в слиянии авиатора и самолета в 1930-х гг. [Загидулина 2019, 152], в 1960е гг. доводится до абсурда: человека в этой системе не остается. Стальная Птица не служит власти, она сама есть власть, а власть есть Стальная Птица, что наиболее отчетливо считывается при анализе персонажной системы: пары Сталин — Попенков. Герои-двойники, тесно связанные на сюжетном и аллюзивном уровнях, воплощают в себе идею всеобъемлющего и всепроникающего владычества. Если птица — овеществленная сила, то Сталин — мифологизированная сущность, персонификация Отца в высшем смысле: «Не смейте упоминать имя Генералиссимуса Сталина всуе!» [Акс ё нов 2014, 18].
Генеральный секретарь становится героем внутренних монологов управдома, импровизирующего в народном стиле на корнете: «Не пиши ты Сталину, милая Мария, не мешай несчастному думать и творить. Пожалей, голубушка, знаменосца мира, милого, родимого сына и отца» [Акс ё нов 2014, 20]. Использование автором техники фейклора — имитации текстовой практики фольклора при помощи готовых формул устного народного творчества с целью легитимации нового властного дискурса посредством его связывания со старым, традиционным [Юстус 2000, 77] — подразумевает погружение в мифический и мистический контекст, в полной мере реализующийся в повести и способствующий конструированию как гротескной фигуры главного героя, так и мирообраза в целом.
Стальная Птица, существо из ниоткуда, занимает господствующее положение, тонко чувствуя (и недвусмысленно обозначая) собственную связь с отцом народов: «— Тема вождя у вас великолепна <...>. — Что? Что вы сказали? — воскликнул Николай Николаевич»; «А то, что вы играли о Сталине, это вот здесь, — он указал подбородком на область сердца» [Акс ё нов 2014, 21].
На интертекстуальном уровне трагическим пафосом отмечено осуществление «Аэропророчества» футуриста В. Каменского: «Через 500 лет. Аэропланы совершенно исчезнут, на земле воцарится своеобразная, красивая полная чудесной поэзии жизнь. Все люди переродятся в человеко-птиц...» [Каменский 2017, 14]. «Стальная птица» становится рефлексией на предсказанную поэтом идею становления летающего человека и одновременно реакцией на уже устоявшуюся и начавшую деградировать советскую систему мировоззрения.
Стоит, однако, отметить, что механизированная Стальная птица противопоставлена «биологическим» гражданам — жителям дома. Данная оппозиция обнажает контраст между эстетикой соцреализма с его типами героев и традиционной культурой, наследующей нарратив золотого века русской литературы (тип маленького человека).
Образ Стальной птицы, кроме того, сконструирован в рамках игровой стратегии. Попенков имитирует модели поведения голого человека, это традиционный для русской литературы типа униженного, поставленного в предельную ситуацию человека, который не имеет ничего, актуализировавшийся в лагерной прозе [Ковтун 2019], связь героя с голым человеком подчеркивается подозрением управдома, что Попенков отбывал наказание в лагере. Стальная птица совершает попытку обмануть собеседника, вписать себя в парадигму представителей данного типа: у него ничего нет, ему негде жить, он готов поселиться в парадном или лифте, при себе имеет только две авоськи: «Это мясо, — он поднял правую руку, — а это рыба, — он поднял левую руку. — Ornnea mea mecum porto» [Аксёнов 2014, 11] Трюк Попенкова подчеркивает парадоксальный характер захватнического поведения персонажа. По-настоящему голым и маленьким перед лицом Стальной птицы оказывается сам управдом: «— Вы из заключения? — спросил Николай Николаевич. <.> — Нет, — ответил Попенков, — с врагами народа никаких, даже родственных связей не имею. Николай Николаевич почувствовал себя раздавленным, жалким, почти голым, почти рабом» [Аксёнов 2014, 22]. Человек, испытавший животный страх, ужас перед властью, ничего не может противопоставить новому жильцу.
Неприкаянность Попенкова оказывается мнимой, и на сюжетном уровне он превращает подъезд в большую квартиру, которая обрастает вещами; занимает общее пространство, «забирает» жену у замминистра 3. И даже мысли других людей для него не остаются тайной, он чувствует их страхи и умело манипулирует: «Третьего дня вы мне дали лекарство от ушей, а отреагировала печень. Простите, но я давно замечаю некоторые странности <...>. Вы не можете мне объяснить? <...> — Да, понимаю, — ответил я, — извините, больше это не повторится» [Акс ё нов 2014, 52]. Высказанные подозрения персонажа толкают его собеседника на признание собственной вины, он соглашается с тем, что лечение неэффективно и обещает впредь не назначать подобных бесполезных (лишь по мнению Попенкова) препаратов. Явно считывающаяся аллюзия на неоднократно упоминаемое в текстах В.П. Акс ё нова дело врачей, является еще одной точкой сближения вождя и получеловека-полусамолета.
Воплощенная в Стальной птице власть характеризуется тотальностью. Она вторгается в частную жизнь людей, этот мотив частотен в текстах автора («Скажи изюм», «Остров Крым» и др.), но здесь власть воплощается не в образе сотрудника КГБ или, собственно, Сталина, а в форме человекоподобного существа, сочетающего в себе инфернальное и механическое.
Учитывая сформированные связи авиационного и властного нарративов, невозможно оставить без внимания механизмы взаимодействия Стальной птицы и культуры. К. Кларк пишет: «В СССР также особая роль придавалась культурному доминированию. Культура означала власть» [Кларк 2018, 22]. Сближение фигуры получеловека с образом Сталина подчеркнуто художественной деталью: «окурок я докурю, “Герцеговина Флор” на полу не валяется. Ясно теперь, кто здесь хозяин?» [Акс ё нов 2014, 30]. Папиросы «Герцеговина Флор» имели статус культовых, их курил Сталин. Слияние происходит в тот момент, когда По-пенков осуществляет захват вестибюля, примечательного своим «культурным» разнообразием: «овальное помещение, т.н. парадное, площадью примерно 178,3 кв. метра. <.> С потолка свисает на металлическом шнуре люстра-плафон в виде древнегреческой амфоры с ручками (консультация в Музее им. А.С. Пушкина). <.> элементы древнегреческой мифологии (консультация в журнале «Октябрь»). <.> Окна правой стороны отражают средневековый франко-германский сюжет <.> (консультация Общества советско-французской дружбы)» [Акс ё нов 2014, 30]. Язык самих описаний интерьера формализован, что демонстрирует некоторую несообразность артефактов и действительности, в которой они оказались, актуализируя иронический пафос повествования.
Культурные коды иных цивилизаций, нашедшие отражение в интерьере вестибюля, свидетельствуют о попытке репрезентации в тексте В.П. Акс ё нова интенций легитимации собственной власти Советского государства 1930-х гг., действовавшего, по мнению К. Кларк, в рамках доктрины «Москва — третий Рим» [Кларк 2018, 35].
Стоит отдельно обозначить линию, связанную с гобеленами, которые ткут по указанию Попенкова Самопаловы. Здесь появляется мотив тотальности: «.ведь родственники Вениамина Федосеевича <.> распро- страняли старофранцузские гобелены на Дальнем Востоке и в Сибири, на Украине, в республиках Закавказья и Средней Азии» [Аксёнов 2014, 61]; «Они все у меня будут ткать гобелены, все эти Самопаловы, Зельдовичи, Николаевы, Фучиняны, Проглотилины, Аксиомовы, Цветковы...» [Аксёнов 2014, 66]. Символичен и мотив ткачества, лингвистически связанный с созданием текста (текст от лат. Textus — ткань; сплетение, сочетание), так, казалось бы, бессмысленное занятие обретает полноту значения, учитывая литературоцентричность русской культуры в целом, распространяются отнюдь не подделки старофранцузских гобеленов, а санкционированные властью тексты, замаскированные под образцы европейского искусства. Таким образом, критически переосмысляется функция вестничества, теперь это не государственная пропаганда, а частное дело конкретного существа неясной природы. Тотальность проявляется и географически, и демографически.
Подобная всеохватность сопряжена с идеей паноптизма, описанной М. Фуко: «.основная цель паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которая обеспечивает автоматическое функционирование власти» [Фуко 1999, 294]. Всевидение и всезнание Попенкова подсвечивается топосами лифта и вестибюля, миновать которые невозможно. В этом смысле будущее пристанище жителей старого дома наследует принцип паноптизма: «дом восьмиэтажный, весь почти стеклянный» [Акс ё нов 2014, 90], только наблюдение теперь будет производиться не изнутри, а извне: новый надзиратель изменит точку обзора, старый останется на обломках старого здания.
Выводы. Итак, «оттепельная» литература, рефлексируя по поводу соцреалистического канона, дискутирует с ним, что способствует появлению авиационных образов, прямо противопоставленных традиционным, дискурс подвергается деконструкции, означающее перестает быть равным означаемому. Авиатора-человека (или даже авиатора-сверхчеловека) больше нет, образ уходит в сферу гротеска, сверхчеловечность в тексте инфернальна — она не результат прогресса, а побочный продукт строительства социализма. Разложение канона в 1960-е гг., здесь стоит уточнить, что имеется в виду фаза деканонизации, описанная X. Гюнтером в работе «Жизненные фазы соцреалистического канона» [Гюнтер 2000b, 286], которая подразумевает не упразднение, а «ревизию соцреализма», что, разумеется, никак не противоречит функционированию канона, например, в очерках, посвященных военной тематике («Боевые подруги мои» М. Чечневой), влечет за собой изменение угла зрения на взаимоотношения общества и государства. Авиационный нарратив сливается с властным: само государство выступает уже не в роли великого зодчего, а как всепоглощающая человекообразная машина. Впрочем, условно оптимистичный финал повести вполне соответствует духу эпохи — «оттепели», однако и в нем чувствуется некоторая настороженность.
Список литературы Деконструкция советского авиационного мифа в художественной прозе "оттепели"
- Аксёнов В.П. «Ловите голубиную почту...»: Письма: [1940-1990 гг.]. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной. 2015. 459 с.
- Аксёнов В. Стальная птица. М.: Эксмо, 2014. 320 с.
- (а) Гюнтер X. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон. СПб.: Академический проект, 2000. С. 743-784.
- (b) Гюнтер X. Жизненные фазы соцреалистического канона // Соцреалистический канон. СПб.: Академический проект, 2000. С. 282-287.
- Загидулина Т.А. Ни ввысь, ни свыше: авиационный дискурс в русской литературе 20-30-х годов XX века. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019. 208 с.
- Каменский В. Аэропророчество // Каменский В. Поэт. Авиатор. Циркач. Гений футуризма. Неопубликованные тексты. Факсимиле. Комментарии и исследования. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. С. 10-15.
- Кларк К. Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931-1941). М.: Новое литературное обозрение, 2018. 520 с.
- Ковтун Н.В. «Голый человек» А. Солженицына на фоне «новой лагерной прозы». Pro et contra // Филологический класс. 2019. № 2. С. 157-167.
- Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 19501990-е годы: пособие для студентов высших учебных заведений: в 2 т. Т. 1: 19531968. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 413 с.
- Липовецкий М. Советские и постсоветские трансформации сюжета внутренней колонизации // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 809-845.
- Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 408 с.
- Сидорчук И.В. «Мы ведь должны и будем летать выше, дальше и быстрее всех»: авиация в советском кинематографе 1920-1930-х гг. // Россия в глобальном мире. 2022. № 25(48). С. 148-170.
- Тернер В. Символ и ритуал. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. 277 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 479 с.
- Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учебное пособие. М.: Флинта, 2006. 136 с.
- Юстус У. Возвращение в рай: соцреализм и фольклор // Соцреалистический канон. СПб.: Академический проект, 2000. С. 70-86.