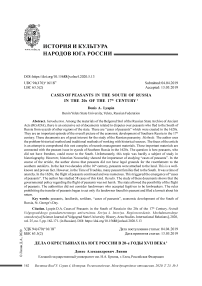Дела о крестьянах на юге России в 20-е годы XVII века
Автор: Ляпин Денис Александрович
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История и культура народов юга России
Статья в выпуске: 5 т.25, 2020 года.
Бесплатный доступ
Среди материалов Белгородского стола Российского государственного архива древних актов (РГАДА) сохранился обширный комплекс документов, связанных со спорами о крестьянах, бежавших на Юг России из других регионов государства. Эти так называемые дела о крестьянстве относятся к 1620-м гг. и представляют важный эпизод общей картины хозяйственного освоения южной окраины. В центре внимания статьи - попытка осмысления имеющихся делопроизводственных материалов, связанных по своей сути с крестьянским вопросом в южнорусских уездах в первой половине XVII века. Эта тема почти не была предметом изучения, несмотря на то что А.А. Новосельский в специальной работе (опубликованной в 1963 г.) показал важность изучения дел «о крестьянстве». В представленном исследовании автор показывает участие крестьян в хозяйственном освоении Юга России в условиях, когда крестьяне уже были официально прикреплены к земле. В Смутное время многие крестьянские семьи бежали на Юг, а в 1620-е гг. эти побеги продолжились с большим размахом, что и вызвало появление многочисленных спорных дел о крестьянах. Автором было изучено 58 спорных дел подобного рода. Исследование этих документов свидетельствует о том, что политика правительства в отношении беглых не была жесткой. Государство допускало возможность бегства крестьян и не считало помещиков, принимавших беглецов, нарушителями закона. В итоге «дела о крестьянстве» свидетельствуют об участии крестьянского населения в хозяйственном освоении региона Юга России и отражают специфику правительственной политики в отношении беглых.
Крестьяне, помещики, крепостное право, дела
Короткий адрес: https://sciup.org/149131750
IDR: 149131750 | УДК: 94(470)“16/18” | DOI: 10.15688/jvolsu4.2020.5.13
Текст научной статьи Дела о крестьянах на юге России в 20-е годы XVII века
DOI:
Цитирование. Ляпин Д. А. Дела о крестьянах на Юге России в 20-е годы XVII века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2020. – Т. 25, № 5. – С. 162–171. – DOI:
Введение. Участие крестьян в освоении южной окраины Российского государства в конце XVI – XVII в. относится к числу сла-боизученных проблем, поскольку источников, объективно отражающих историю крестьянства этого региона, не много. В этой связи большое значение приобретают документы, связанные с частными вопросами, среди которых особое место занимают спорные дела о крестьянах, получившие большое распространение в 1620-е годы. Рассмотрению этих документов посвящена наша статья.
Изучая социальную историю Юга России, историки сконцентрировали свое внимание на исследовании мелкого поместного землевладения, и в этом отношении сегодня достигнуты большие успехи [6; 8; 15; 17; 19; 34–36]. Однако вопрос об участии крестьян в освоении Юга в таких работах всегда относился к разряду косвенной проблематики. Следует отметить, что советские ученые, изучавшие Смутное время как «Крестьянскую войну», предполагали значительным количество беглых крестьян и холопов на Юге в конце XVI в. (см.: [18, с. 30–32]). Именно в крестьянах они видели главную социальную составляющую развернувшегося здесь движения против царя Василия Шуйского в 1606–1607 гг. [10; 30; 33]. Современные историки отказались от трактовки Смуты как «Крестьянской войны», и вопрос о численности крестьян в регионе остается открытым.
Среди специальных работ, наиболее близких нашей теме, статья А.А. Новосельского о роли крестьян в хозяйственном освоение Юга России [27]. В этой работе ученый первым обратил внимание на важность изучения дел «о крестьянстве» 1620-х гг. как исторического источника, показал значимость этого вида документов для понимания особенностей хозяйственного освоения региона в XVII веке.
В книге о «городских восстаниях» в России в первой половине XVII в. (1975) Е.В. Чистякова посвятила отдельный параграф борьбе крестьян южной окраины против «угнетения со стороны помещиков» [34, с. 113]. Однако ею остался не востребован обширный комплекс дел «о крестьянстве» 1620-х годов, несмотря на обстоятельную статью А.А. Новосельского. Исследовательница сделала акцент на изучении записей крестьян в служилые люди, что получило большое распространение в 1630-е гг., и интерпретировала это как крестьянский протест против закрепощения [34, с. 113–125].
Крестьянство южных уездов косвенно затрагивалось в исследованиях ученых, работавших в русле различных вопросов социально-экономической истории Юга России. Осо- бенно следует отметить труды ученых воронежской и тамбовской научных школ, а также книги американских историков Б. Дэвиса и К. Стивенс-Белкиной [8; 9; 15; 17; 19–21; 25; 26; 28; 34; 36; 37].
Методы и материалы. Методология работы связана прежде всего с применением типологического и сравнительного методов. Типологический метод позволил выявить общее и особенное в изучении спорных дел о крестьянстве. С его помощью мы проанализировали и структурировали комплекс сохранившихся документальных материалов. Это помогло нам понять специфику составления подобного рода дел, их общий характер и особенности. Применение сравнительного метода позволило выявить общие и отличительные черты в изученных документах.
Для построения теоретических выводов, связанных с обработкой собранного нами архивного материала, мы применяли совокупность частных аналитических методик, включая анализ и синтез результатов, абстрагирование, а также метод допущения. В результате удалось систематизировать полученную информацию и более эффективно использовать ее для теоретических построений.
Важное место в исследовании занимает работа с источниками. Нами был изучен комплекс спорных дел о крестьянах, которые велись между помещиками (дела «о крестьянстве») в 1620-е годы. Эти документы сохранились в материалах Белгородского стола Разрядного приказа [31; 32]. К сожалению, они не составляют единый комплекс, а напротив, разбросаны в столбцах среди прочих делопроизводственных актов, географически связанных с Югом России. Самый ранний изученный нами документ датируется весной 1620 г., самый поздний – осенью 1629 года. Сохранность документов хорошая или удовлетворительная, но в любом случае она вполне позволяет понять их смысл и изложенный ход событий. Всего нами было изучено 58 спорных дел о крестьянах, которые происходили в различных уездах Юга России. Из них 15 дел связаны с бегством в Елецкий уезд, 13 – в Курский, а остальные касаются Воронежа, Ливен, Лебедяни, Белгорода, Крома и Камарицкой волости.
Анализ. Спорные дела о крестьянах отражают часть общей картины хозяйственного освоения региона, и их изучение необходимо представлять в контексте хозяйственного освоения южнорусской окраины первой половины XVII века.
Присоединение обширных земель Юга России (территория большей части современного Центрального Черноземья) началось в середине XVI в., когда первые русские крепости выдвинулись за Оку [16, с. 80–81]. В последней трети этого столетия, в правление Федора Ивановича (1584–1598) и Бориса Годунова (1598–1605), начинается интенсивный этап строительства крепостей и хозяйственное освоение их округи. Были построены Воронеж (1586), Ливны (1586), Елец (1592), Оскол (1596, сегодня – Старый Оскол), Курск (1596), Белгород (1596), Валуйки (1599) и Царев-Борисов (1599) [16; 26].
Хозяйственное освоение округи крепостей было особенно существенным в Ельце, Курске и Ливнах, где оно вскоре привело к образованию уездов, сложившихся здесь, по-видимому, уже в начале XVII в. [13; 22; 23; 28]. К 1613 г. появился и Воронежский уезд [9], а в 1615 г. оформились уезды большинства остальных крепостей. Таким образом, с 1586 по 1604 г. интенсивно распахивались земли, развивалась поместная система, осваивались богатые природные ресурсы южной окраины государства [17; 23]. Однако крестьян среди поселенцев на первом этапе развития региона было немного, если судить по сохранившимся данным [1; 2; 14]. Это неудивительно, ведь последние десятилетия XVI в. были временем отмены крестьянского выхода и прикрепления крестьян к земле конкретного помещика или вотчинника [3–5; 7, с. 228; 10, с. 310– 358; 26; 28; 35, с. 99]. Правда, как установил С.Б. Веселовский, вплоть до 1649 г. правительство официально признавало отмену норм Юрьева дня временной (почти 75 лет), крестьяне и землевладельцы могли предполагать, что выход рано или поздно будет разрешен вновь [7, с. 227–229]. Таким образом, несмотря на существование указа о запрете крестьянского выхода, сам процесс прикрепления крестьян к земле растянулся на большой срок и был связан с различными нюансами общественно-экономического развития страны.
Первые известные нам массовые документы, в которых упоминается о крестьянах Юга России, относятся к 1615–1622 гг. [21]. Логично предположить, что в условиях запрета крестьянского выхода основная часть крестьян переселилась в этот регион в годы Смутного времени, пользуясь безвластием и делопроизводственным хаосом. С 1620 г. в крепостях Юга России начинаются массовые разбирательства по поводу беглых [31, л. 92– 288], которых правительство обязывало возвращать прежним владельцам «в правду и безволокитно» [31, л. 94]. Тем не менее в материалах смотра 1622 г. (десятня) количество упоминаемых в Елецком уезде крестьян составило 1 256 человек, а число землевладельцев – 820, включая поместных казаков. Численность помещиков, не имевших крестьян, составила 193 человека, или 23 % от общего числа детей боярских [23]. Однако такая ситуация была далеко не везде: в соседнем Ливенском уезде в 1615 г. только 154 помещика из 727 владели хотя бы одним крестьянином, что составило 21,18 %, еще меньший показатель был характерен для Воронежского уезда [17; 25; 29].
Таким образом, мы видим, что после Смутного времени крестьянское население распространилось в некоторых южных уездах. Поскольку юридических оснований для их переселения не было, то единственное возможное объяснение заключается в том, что крестьяне пришли на эти земли, воспользовавшись отсутствием четкого контроля со стороны центральной власти. После 1618 г. крестьяне продолжили переселяться на Юг, но теперь правительству Михаила Федоровича Романова предстояло бороться с этим явлением.
Казалось бы, новое правительство должно было руководствоваться принятым при Василии Шуйском Уложением о крестьянах от 9 марта 1607 г., в котором запрещались все способы крестьянского перехода (кроме вступления девушки в брак) [18, с. 126]. Однако, как мы увидим, это было не так. Рассмотрим несколько наиболее показательных примеров спорных дел о крестьянстве.
В 1616 г. от помещика Белевского уезда Ивана Страхова сбежали крестьяне и поселились в Елецком уезде у помещика Тимофея
Рогачева и у его матери – вдовы Марии Семеновны Пашковой [31, л. 693–694]. В 1620 г. И. Страхов обнаружил своих крестьян и потребовал их возвращения. Т. Рогачев не препятствовал этому, однако не отдал двух крестьянских лошадей, а также отказался платить подати за крестьян [31, л. 693]. И. Страхов требовал от Т. Рогачева вернуть крестьянам лошадей и выплатить рубль податей за прошлый год (когда крестьяне жили на его земле). Елецким властям надлежало провести очную ставку и «иски всякие сыскивать накрепко, да по суду своему и по сыску меж ними управу учинить в правду и по нынешнему указу безволокитно» [31, л. 694]. Итог этого дела остался неизвестным.
В 1623 г. от орловского помещика Савелия Богдановича Хардикова бежали крестьяне. Они поселились в Курском уезде в поместьях братьев Тита и Исайи Черных [32, л. 15]. В своей челобитной С.Б. Хардиков писал, что «бежали из твоего государева жалования из моего поместица» две крестьянские семьи «с животы» (то есть с имуществом). Обнаружив своих беглых, орловский помещик подал челобитную в Орел, а потом и в Москву в Разрядный приказ, откуда в Курск пришло распоряжение провести следствие и суд. В практике решения подобного рода дел воеводе рекомендовалось провести очную ставку [32, л. 16]. Показательно, что братья Черных не препятствовали возвращению крестьян к прежнему владельцу и даже не стремились обосновать свои права на их труд.
В 1621 г. из Мценского уезда от помещика Данила Ивановича Беклемишева бежали две крестьянские семьи, а «бегаючи» пришли в Ливенский уезд, в деревню Синегубову, и поселились на земле Онуфрия Ачкасова и Степана Лесина [32, л. 236–237]. Д.И. Беклемишев вскоре обнаружил своих крестьян и подал челобитную в Разрядный приказ об их возвращении. В 1622 г. воеводе Ливен князю Михаилу Сергеевичу Козловскому было приказано послать приставов и арестовать беглых, однако помещики «тех крестьян ухоронили». Тогда Д.И. Беклемишев вновь написал челобитную в Москву, где повторил свою просьбу, и вновь помещики «ухоронили» крестьян и приставы вернулись ни с чем. Третий раз Разрядный приказ требовал от воеводы
Ливен (теперь им был Федор Васильевич Бутурлин) принять решительные действия, чтобы найти крестьян и провести очную ставку между беглецами и помещиком Д.И. Беклемишевым [32, л. 237].
На примере этого дела видим, что помещик обычно находил своих крестьян в том же году, в котором они бежали, или же на следующий год. Конечно, принять меры по поиску надлежало сразу, чтобы найти беглых «по горячим следам», ведь со временем их поиск только усложнялся.
Если стороны начинали тяжбу с привлечением свидетелей, спорные дела о крестьянах разрастались в документальный комплекс объемом в 40–60 листов. Рассмотрим для примера одно такое дело [32, л. 109–149]. В 1626 г. в Курском уезде начался очередной спор о беглых крестьянах. Помещик Белевского уезда Поликарп Полтев жаловался на курского сына боярского Ерофея Конева, что тот не отдает ему беглых крестьян («Мишутку Та-рова с женой да с детьми да со всеми животы») [32, л. 109].
На основании иска и указа из Москвы воевода Василий Тавбеев начал проводить следствие и устроил очную ставку. По словам истца, крестьяне бежали на третьей неделе Великого поста 1626 г. и сразу же поселились у Е. Конева. Однако ответчик уверял, что крестьяне пришли к нему уже давно, задолго до этого [32, л. 112]. Тогда воевода провел процедуру крестного целования, в ходе которого ответчик «взял крест целовать себе на душу» [32, л. 113].
После этого П. Полтев стал утверждать, что крестьянин «давал явки в Белеве», то есть накануне побега посещал различные явочные места, и прежде всего кабак (посетители кабака фиксировались в кабацких книгах), а также сослался на своих соседей-помещиков [32, л. 114]. Однако Е. Конев отвечал, что явки еще надо изучить, а сам П. Полтев родом из Сер-пейска, он и соседи – «одного города уроженцы и скажут по нему» [32, л. 115].
Затем ответчик заявил, что П. Полтев на самом деле ищет крестьян своего покойного отца, которые разбежались, когда его убили татары, а сам истец оказался «в татарском полоне тому лет с четырнадцать». В это время поместье принадлежало другим людям, но, когда П. Полтев вернулся из плена, земли ему вернули уже без крестьян. Трудно сказать, откуда взялись такие подробные сведения у ответчика, но они существенно затянули следствие, так как начались обыски и опрос свидетелей.
Пока шло следствие, Е. Конев принес воеводе выписки из писцовых и отказных книг, которые П. Полтев называл «послуше-ством», то есть записями, основанными на неточных данных, записанных со слов [32, л. 129]. Окончание этого дела остается неясным, тем не менее оно хорошо отражает суть таких конфликтов.
Дела подобного рода однотипны, и их полное описание не входит в задачу нашей статьи, но на основании изученных материалов можно сделать некоторые важные наблюдения.
Результаты. Прежде всего, отметим, что все изученные нами документы не отражают процесс поиска и обнаружения помещиком своего беглого крестьянина. Каждое дело о «крестьянстве» начинается с того, что помещик подает челобитную, где указывает, что обнаружил беглеца и просит обязать воеводу оказать ему всяческую помощь в аресте и отправке крестьянина назад. Затем воевода по указу из Разрядного приказа отправлял приставов за беглецами и проводил очную ставку.
Если землевладелец, у которого проживал крестьянин, не соглашался его вернуть, начиналась тяжба с привлечением свидетелей, обыском и допросами. Здесь очная ставка устраивалась уже между спорящими помещиками и сопровождалась привлечением всех возможных свидетельств. Каким образом находил помещик своего беглого крестьянина, остается непонятным, потому что государство не интересовалось этим процессом и никак его не регулировало (во всяком случае, если судить по сохранившимся делам «о крестьянстве»).
У нас нет документальных свидетельств о том, что помещик, на земле которого проживал беглый крестьянин, получал наказание (см. также: [3; 4]). Значит, нормы «Уложения о крестьянах» Василия Шуйского 1607 г. в данном случае не действовали, ведь, согласно этому закону, помещик, принявший беглого крестьянина, платил штраф («не принимай чужого»), а старосты и свя- щенники были обязаны докладывать властям, «нет ли где пришлых вновь» [18, с. 126]. Показательно, что курянин Ерофей Конев в споре о крестьянах в 1626 г. утверждал, что крестьяне «живут за ним» уже давно, то есть он не отрицал того факта, что принял беглых, но указывал только, что беглые не принадлежат истцу [32, л. 112].
Даже если один помещик подговорил крестьян бежать с земель другого, в челобитной пострадавшего звучит только просьба вернуть крестьян, но нет речи о наказании того, кто подталкивал их к бегству [31, л. 615]. Так, в 1622 г. елецкому воеводе было приказано разобраться в спорном деле по поводу беглых крестьян Ивана Страхова, проживавших в деревне Хмелинец у помещика Романа Гнездилова. Воевода должен был «сыскать тех крестьян» и «поставить перед собою с Иваном Страховым с очи на очи во крестьянстве их, и списки писать по суду своему и по сыску меж ними в правду им безволокитно» [32, л. 690]. Видим, что участие елецкого помещика Гнездилова, принявшего к себе крестьян, совсем не предполагается в этом деле, даже в качестве свидетеля.
Спорные дела о крестьянах показывают, что нормы, запрещавшие свободный выход крестьян, начинали действовать только тогда, когда помещик искал и находил беглеца. Это можно понять, ведь в противном случае московские приказы оказались бы завалены жалобами на сбежавших крестьян и просьбами о содействии в их поимке. Чтобы избежать этого, государство начинало вмешиваться в отношения землевладельца и беглого крестьянина только на последнем этапе, когда беглец был уже обнаружен. Если же его найти не удавалось, то государство оставалось безучастно к этой проблеме. Во всяком случае, такую логику мы видим на основании изученных нами документов.
Таким образом, подводя итог, отметим, что дела «о крестьянстве» указывают на распространившееся бегство крестьянских семей в южные уезды и отражают процесс участия крестьян в хозяйственном освоении окраины. Отмена права перехода крестьян в последние десятилетия XVI в. еще не гарантировала окончательное и полное прикрепление их к земле (на это обратил справедливое внима- ние В.А. Аракчеев [3–5]). Показательно в этой связи и то, что крестьяне в условиях запрета выхода могли быть записаны в служилые люди как в конце XVI в., так и на всем протяжении первой половины XVII в. (оставив вместо себя на помещичьей пашне своего родственника) [11; 12; 14; 36, p. 56–75; 37]. Следовательно, государство допускало возможность ухода крестьянина от землевладельца, и крестьяне еще не воспринимались обязанными вечно жить на землях одного землевладельца.
Довольно мягкая политика правительства в отношении к беглым в южные уезды в 1620-е гг. способствовала хозяйственному развитию этого региона, связанному как с ростом мелкого помещичьего землевладения, так и с расширением крупных земельных владений [24]. Однако следует отметить, что в 1630-е гг. бегства крестьян уменьшались, что привело к катастрофической нехватке крестьянских дворов и росту однодворческого землевладения. В итоге численность помещиков-однодворцев уже в 1648 г. в некоторых южных уездах составила 80 % [19; 34]. Данная проблема может быть рассмотрена уже в рамках следующего исследования.
Список литературы Дела о крестьянах на юге России в 20-е годы XVII века
- Анпилогов, Г. Н. Новые документы о России конца XVI - начала XVII вв. / Г. Н. Анпилогов. -М. : Изд-во МГУ, 1967. - 541 с.
- Анпилогов, Г. Н. Рязанская писцовая и приправочная книга конца XVI века / Г. Н. Анпилогов. - М. : Изд-во МГУ 1982. - 272 с.
- Аракчеев, В. А. Проблема «урочных лет» в русском государстве в конце XVI-XVII вв. / В. А. Аракчеев // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. -№ 85. - С. 31-37.
- Аракчеев, В. А. Закрепощение крестьян в России в конце XVI - начале XVII в. / В. А. Аракчеев // Вопросы истории. - 2009. - № 1. - С. 106-117.
- Аракчеев, В. А. Власть и «земля». Правительственная политика в отношении тягловых сословий в России второй половины XVI - начала XVII века / В. А. Аракчеев. - М. : Древлехранилище, 2014. - 506 с.
- Важинский, В. М. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII веке / В. М. Важинский. - Воронеж : Изд-во ВГПИ, 1974. - 237 с.
- Веселовский, С. Б. Отмена Юрьева дня // Московское государство: XV-XVII вв. / С. Б. Веселовский. - М. : АИРО - XXI, 2008. - 384 с.
- Глазьев, В. Н. Власть и общество на юге России в XVII в.: противодействие уголовной преступности / В. Н. Глазьев. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 2001. - 307 с.
- Глазьев, В. Н. Заселение городов-крепостей Центрального Черноземья в контексте социальной политики российского правительства в конце XVI в. / В. Н. Глазьев // Столица и провинция: история взаимоотношений : материалы Шестой региональной науч. конф., г. Воронеж, 3 февр. 2012 г. -Воронеж : Изд-во ВГУ, 2012. - С. 7-11.
- Греков, Б. Д. Крестьяне на Руси / Б. Д. Греков. - Т. II. - М. : Изд-во АН СССР, 1954. - 469 с.
- Десятня детей боярских Козлова 1637 г. // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). - Ф. 210. - Оп. 6-е. - Д. 2.
- Десятая разборная ельчан 1604 г. // РГАДА. -Ф. 210.- Оп. 1. - Д. 86.
- Десятая разборная ельчан 1622 г. // РГАДА. -Ф. 210.- Оп. 4. - Д. 87.
- Документы о строительстве Ельца и заселении его окрестностей // РГАДА. - 1593. -Ф. 141.- Д. 1.
- Загоровский, В. П. Белгородская черта / В. П. Загоровский. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 1968. -304 с.
- Загоровский, В. П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке / В. П. Загоровский. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. - 272 с.
- Камараули, Е. В. Формирование поселенческой структуры в южных уездах России в первой половине XVII в. (на примере Воронежского уезда) / Е. В. Камараули // История: Факты и символы. -2018. - №> 3 (16). - С. 97-105.
- Козляков, В. Н. Василий Шуйский / В. Н. Козляков. - М. : Молодая гвардия, 2007. - 301 с.
- Ляпин, Д. А. Из помещиков в крестьяне: о происхождении сословия государственных крестьян-однодворцев / Д. А. Ляпин // История в подробностях. - 2010. - №> 6. - С. 11-16.
- Ляпин, Д. А. Колонизация Центрального Черноземья в конце XVI - начале XVII веков / Д. А. Ляпин // Актуальные вопросы истории российской провинции XVI-XXI вв.: тематический сборник научных трудов. - Вып. 4. - Новосибирск : Изд-во НГТУ 2009. - С. 7-23.
- Ляпин, Д. А. О крестьянском населении на южной окраине России в конце XVI - начале XVII вв. / Д. А. Ляпин // Крестьянство и власть в России (IX -начало XX вв.): к 150-летию отмены крепостного права : материалы науч. конф., г. Липецк, 12-13 апр. 2011 г. - Липецк : Изд-во ЛГПУ 2011. - С. 28-31.
- Ляпин, Д. А. От крепостей к городам: повседневно-бытовые и поведенческие модели населения южнорусской крепости конца XVI в. / Д. А. Ляпин // История: Факты и символы. -2016. - №> 2. - С. 9-16.
- Ляпин, Д. А. Численность и размещение населения Ливенского и Елецкого уездов в конце XVI - начале XVII веков / Д. А. Ляпин, Н. А. Жиров // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 3. Чтения памяти академика РАН Л.В. Мило-ва : материалы Междунар. науч. конф., г. Москва, 21-23 ноября 2013 г. - М. : Изд-во МГУ, 2013. -С. 283-288.
- Ляпин, Д. А. Частные владения крупных вотчинников в городах Юга Росси в середине XVII в. / Д. А. Ляпин // Известия Саратовского университета. Серия «История. Международные отношения». - 2015. - Т. 15, №> 4. - С. 5-7.
- Мацук, М. А. Город Ливны и Ливенский уезд в 1615/16 году / М. А. Мацук. - Сыктывкар : Изд-во Ин-та языка, литературы и истории РАН. Коми научный центр, 2001. - Ч. 1. - 253 с.
- Мизис, Ю. А. Проблема формирования русского фронтира на юге России в XVI - первой половине XVIII в. в отечественной историографии / Ю. А. Мизис, С. Г. Кащенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2, История. -2011. - №№ 1. - С. 9-16.
- Новосельский, А. А. Дела «о крестьянстве» как источник для изучения истории закрепощения свободного сельского населения на Юге России в XVII в. / А. А. Новосельский // Археографический ежегодник за 1962 г. - М. : Изд-во АН СССР, 1963. - С. 147-154.
- Петрухинцев, Н. Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в. / Н. Н. Петрухинцев // Вопросы истории. - 2004. - №№ 7. - С. 23-40.
- Платежная книга Елецкого уезда 1615 г. // РГАДА. - Ф. 1209. - Оп. 1. - Д. 232.
- Смирнов, И. И. Восстание Болотникова. 1606-1607 / И. И. Смирнов. - М. : Госполитиздат, 1951. - 592 с.
- Столбцы Белгородского стола // РГАДА. -Ф. 210. - Оп. 12. - Д. 9.
- Столбцы Белгородского стола // РГАДА. -Ф. 210. - Оп. 1. - Д. 16.
- Фирсов, Н. Н. Крестьянская революция на Руси в XVII в. / Н. Н. Фирсов. - М. : Гос. изд-во, 1927. - 126 с.
- Чистякова, Е. В. Городские восстания в России в первой половине XVII века / Е. В. Чистякова. -Воронеж : Изд-во ВГУ, 1975. - 246 с.
- Шевченко, М. М. История крепостного права в России / М. М. Шевченко. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 1981. - 256 с.
- Davies, L. B. State power and community in Early Modern Russia. The Case of Kozlov, 1635-1649 / L. B. Davies. - New York : Palgrave MacMillan, 2004. -309 p.
- Stevens Belkin, C. Soldiers on the Steppe. Army reform and Social change in Early modern Russia / C. Stevens Belkin. - Northern Illinois : Northern Illinois University Press, 1995. - 240 p.