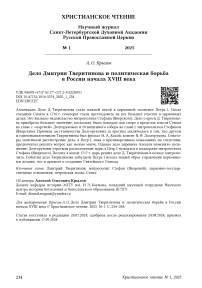Дело Дмитрия Тверитинова и политическая борьба в России начала XVIII века
Автор: Крылов А.О.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Дело Д. Тверитинова стало важной вехой в церковной политике Петра I. После создания Сената в 1710 г. сенаторы стали претендовать на все большее участие в церковных делах. Это вызвало недовольство митрополита Стефана (Яворского). Дело о ереси Д. Тверитинова приобрело большое значение, поскольку было поводом для спора о пределах власти Сената во главе с «партией» Долгоруковых и Освященного собора во главе с митрополитом Стефаном (Яворским). Причина заступничества Долгоруковых за еретика заключалась в том, что другом и единомышленником Тверитинова был фискал М. А. Косой, клиент Я. Ф. Долгорукова. Сенаторы затягивали рассмотрение дела, а Петр I, зная о противоречивых показаниях на следствии, предпочитал решить вопрос как можно мягче. Однако дело царевича Алексея изменило положение: Долгоруковы утратили расположение царя, а Петр I нуждался в поддержке митрополита Стефана (Яворского). Потому в конце 1717 г. царь решил дело Д. Тверитинова в пользу митрополита. События дела Тверитинова побудили Петра I искать новый образ управления церковными делами, что и привело к созданию Святейшего Синода.
Дмитрий тверитинов, митрополит стефан (яворский), церковно-государственные отношения, петровская эпоха, сенат
Короткий адрес: https://sciup.org/140309275
IDR: 140309275 | УДК: 94(470+571)"16/17"+271.2-9:322(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_234
Текст научной статьи Дело Дмитрия Тверитинова и политическая борьба в России начала XVIII века
Политика Петра I в отношении Православной Церкви обычно рассматривается учеными как ряд мер, направленных на подчинение церковной иерархии монарху. При этом началом этого наступления на права духовенства считается время от выборов нового патриарха в 1700 г., а итогом — создание Св. Синода в 1721г. Такой подход побуждает исследователей рассматривать все события церковной жизни России 1700–1710-х гг. как вехи единого процесса подчинения Церкви государству (см. подр.: [Крылов, 2021]).
Между тем церковная политика Петра I явно делится на два этапа: период фактического отстранения царя от церковных дел в 1700 — нач. 1710-х гг. и период церковных реформ, начавшихся в 1716 г. и продолжавшихся до кончины императора. Рубежом между двумя этапами стало дело о ереси московского лекаря Дмитрия Тверитинова, следствие по которому продолжалось с 1714 по 1717 г. Хотя в начале XVIII в. судебные дела по обвинению в «богохульстве» не были редкостью, дело Тверитинова имело большой резонанс и особо разбиралось самим царем.
Материалы дела Тверитинова, охватывающие период с 1714 по 1723 гг., сохранились в архиве Св. Синода (РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 387). В 1716 г. Леонтий Магницкий, один из обвинителей лекаря, написал для некоего духовного лица «Записку», подробно излагавшую обстоятельства дела Тверитинова и воззрения лекаря-вольнодумца. Поскольку Магницкий знал Тверитинова еще до начала следственного дела, в «Записке» содержалось много подробностей о биографии лекаря и его окружении. В 1714–1718 гг. митр. Стефан (Яворский) написал полемическое сочинение «Камень веры», направленное против Тверитинова.
В 1728 г. архиеп. Феофилакт (Лопатинский) снабдил первое печатное издание «Камня веры» предисловием, в котором кратко излагались обстоятельства дела Тверитинова, ставшие поводом для создания сочинения (Стефан Яворский, 1728). В кон. 1730-1731 гг. Св. Синод вновь был вынужден обратиться к делу Тверитинова — на этот раз в связи с доношением митр. Антония (Стаховского) о еретике Михаиле Косом (РГИА. Ф. 796. Оп. 11. Д. 33).
Дело Дмитрия Тверитинова как колоритный эпизод истории петровской эпохи привлекло внимание историков во 2-й пол. XIX в. В 1863 г. Ф. А. Терновский рассмотрел события дела Тверитинова [Терновский, 1863а], а также два полемических сочинения, направленных против московского еретика: «Рожнец духовный» и «Камень веры» [Терновский, 1863б]. В 1867 г. вышел XVI том «Истории России с древнейших времен», в котором С. М. Соловьев также коснулся дела Тверитинова, хотя и достаточно лаконично [Соловьев, 1993, 437-545]. Наиболее полно обстоятельства дела Тверитинова изложены Н. С. Тихонравовым в 1870 г. [Тихонравов, 1870]. В 1898 г. эта работа была опубликована в составе посмертного собрания сочинений автора [Тихонравов, 1898, 156-304]. В 1882 г. Обществом любителей древней письменности была издана «Записка Леонтия Магницкого с приложением материалов следственного дела» [Записка, 1882]. Наконец, в 1883 г. Д. В. Цветаев, изучавший историю западных конфессий в России XVI–XVII вв., посвятил делу Тверитинова особое исследование [Цветаев, 1883].
Все эти работы следовали общему подходу. Авторы излагали ход событий по материалам следственного дела, подробно пересказывая все его перипетии и украшая текст обширными цитатами из документов. Сама ересь Тверитинова расценивалась исследователями как пример западного, протестантского влияния на русскую духовную жизнь, а потому рассматривалась в контексте прочих петровских новаций в области культуры.
Последующие исследователи, обращавшиеся к делу Тверитинова, меняли лишь общие оценки процесса и ракурс рассмотрения, отсылая читателей, интересующихся подробностями, к труду Н. С. Тихонравова. Так, историк Церкви А. В. Карташев видел в деле Тверитинова конфликт интересов Православной Церкви и царя-преобразователя, симпатизировавшего протестантам [Карташев, 2004, 342–344], советские ученые — пример «вольнодумца», выступившего против авторитета Церкви [Корецкий, 1964; Мазуркевич, 1975; Мильков, 1987; Смилянская, 1982; Ничик, 1991].
В работах нач. XXI в. дело Тверитинова было представлено в общем контексте религиозной жизни России нач. XVIII в. Е. Б. Смилянская писала о Тверитинове в ряду прочих примеров девиантной религиозности нач. XVIII в. [Смилянская, 2003, 265–273], а А. Н. Андреев — в контексте воздействия западнохристианских исповеданий на русское общество XVIII столетия [Андреев А. Н., 2011, 150–137].
Тем самым, дело Тверитинова рассматривалось в историографии как пример идейного, религиозного противостояния, как частное проявление процесса вестернизации и секуляризации русской жизни в правление Петра I. Политический контекст дела Тверитинова подробно не рассматривал даже П. Бушкович, посвятивший свою монографию политической борьбе в правящей элите России эпохи Петра I [Бушко-вич, 2008, 357–358].
Дело Стефана Прибыловича, менее значительное и более запутанное, постигла схожая судьба. После того как Н.Я. Токарев в 1888 г. опубликовал статью, в которой разбирал материалы следственного дела [Токарев, 188], этот судебный процесс более не привлекал специального внимания исследователей и никак не соотносился с делом Тверитинова и политическими интригами 1710-х гг.
Между тем значение дела Тверитинова состояло не в том, что московский лекарь позволил себе критиковать православное Предание, а в том, что обвинение в ереси стало поводом для спора о границах власти Сената и Освященного собора во главе с митр. Стефаном (Яворским). Этот спор и стал предпосылкой для последующей церковной реформы Петра I.
Царская и духовная власть в 1700-е годы
Патриарх Адриан с 1694 г. был тяжело болен и в 1700 г. скончался. Петр I опасался, что новый первоиерарх станет центром притяжения оппозиции, а потому не назначил срок выборов нового предстоятеля. В сложившейся ситуации полномочия патриарха были разделены между вновь созданным Монастырским приказом во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным и рязанским митрополитом Стефаном (Яворским). Монастырский приказ стал заниматься церковным имуществом, а митрополит — церковноадминистративными вопросами, такими как поставление священников в громадной Патриаршей области. Кроме того, владыка Стефан оставался архиереем Рязанской епархии, а с 1700 г. возглавлял также Тамбовскую епархию. При этом официальный статус митрополита был неясным: он не имел официального титула патриаршего местоблюстителя — поскольку таковым и не являлся [Живов, 2004, 216-258].
Ослабление церковной власти сопровождалось и ослаблением власти аристократии: Петр I не созывал Боярскую думу и правил страной при помощи двух фаворитов, В. Головина и А. Д. Меншикова. Однако в сер. 1700-х гг. царь был вынужден пойти на компромисс: была создана система губерний, во главе которых поставлены губернаторы-аристократы с широкими полномочиями. К тому же после Полтавской победы Петр I осознал нужду в правительственном органе, который бы мог управлять страной в отсутствие государя: если в XVII в. монарх редко покидал столицу на продолжительное время, то царь-преобразователь почти все время проводил в разъездах [Бушкович, 2008, 259–296].
К этому времени «чрезвычайный» образ управления церковными делами привел к тому, что центральная власть в Русской Церкви ослабла, епархии обеднели, а некоторые кафедры годами вдовствовали. Митрополит Стефан (Яворский) был перегружен административными делами. В стране росло число «раскольников» разных течений.
В Москве авторитет митр. Стефана (Яворского) среди духовенства с годами укреплялся. Опорой митрополита и его гордостью стала Московская академия, ректором которой с 1706 г. был архим. Феофилакт (Лопатинский) [Андреев А. Ю.,
2009, 157-159]. Академия наряду с Печатным двором, Чудовым монастырем и учрежденной зимой 1700–1701 г. Навигацкой школой стала одним из мест притяжения образованных москвичей, духовных лиц и мирян. В основном это были ученые монахи из Киева, а также великороссы, получившие образование в 1680–1690-е гг. в Типографской школе и училище братьев Лихудов, и их друзья, интересовавшиеся ученостью. Среди них были весьма влиятельные лица: боярин И. А. Мусин-Пушкин, прибыльщик Иван Курбатов, глава Печатного двора Ф. Поликарпов, математик Леонтий Магницкий. С образованными москвичами поддерживали контакты ростовский митрополит Димитрий (Савич) и новгородский митрополит Иов [Лаврентьев, 1997, 83–90; Федюкин, 2024, 114–131]. В отличие от ситуации 1680-х гг., образованные москвичи не делились на «латинян» и «грекофилов», да и вообще на какие-либо противостоящие «партии» [Крылов, 2014].
Образованные москвичи, как и их предшественники в XVII в., были ревностными православными и не отличались либерализмом в делах веры. Несомненным их успехом был провал миссионерского плана иезуитов. Хотя Обществу Иисуса удалось создать в Москве школу, она так и не смогла оказать заметное влияние на умы москвичей (Письма, 1904, 148, 158–159, 164–165).
Протестантов в столице России было немало, однако лютеране и кальвинисты не пытались обращать русских в свою веру. Протестантизм считался «немецкой верой» [Андреев А. Н., 2011, 335–336]. Тем более неожиданным был тот факт, что в Москве сложилась группа, в которой открыто проповедовались идеи протестантского толка. Лидером этой группы был Дмитрий Иванович Дерюжкин по прозвищу Тверитинов.
Московский еретик Дмитрий Тверитинов
Дмитрий Дерюжкин родился в Твери (отсюда и позднейшее прозвище Тверити-нов), в 1692 г. перебрался в Москву, где учился медицине в Немецкой слободе и участвовал со своим учителем в Азовских походах. Около 1700 г. Тверитинов женился и начал самостоятельную врачебную практику, причем пользовался немалым успехом. Тогда же лекарь начал по-своему толковать веру, составив тетрадку с цитатами из Св. Писания и толкований. Вероятно, основой для них послужили беседы с протестантами из Немецкой слободы, но в дальнейшем Тверитинов развивал свои идеи самостоятельно. Дмитрий Иванович любил порассуждать и поспорить о вере, он собрал у себя внушительную библиотеку духовной литературы. В целом взгляды лекаря сводились к тому, что он отвергал почитание икон и других материальных святынь, не верил в пресуществление Св. Даров, в действенность молитв за усопших. Сочинения свв. отцов Тверитинов не уважал («предания старцев»), утверждая, что вере следует учиться по Евангелию.
Вокруг Тверитинова сложился кружок единомышленников-посадских, приходивших к красноречивому и остроумному лекарю поговорить о религии. К началу 1710-х гг. из них было известно около десятка человек [Карташев, 2004, 265–270]. Верным сподвижником Дмитрия Тверитинова был его двоюродный брат цирюльник Фома Иванов. Шурин Тверитинова серебряных дел мастер Петр Олисов также сперва принял новое учение лекаря, но потом отказался от него и бежал из дома в Переславль-Залесский, где в 1703 г. принял монашеский постриг с именем Пафнутий [Терновский, 1863а, 16–39].
Самой заметной для окружающих особенностью взглядов Тверитинова был его скепсис по отношению к иконам. Так, в 1707 г. дом Иулиании Украинцевой, вдовы дьяка-дипломата, посетил московский священник Кирилл Владимиров с чудотворной иконой св. Ипатия Гангрского. Присутствовавший Тверитинов отнесся к возможной помощи от иконы с неприкрытым сарказмом. Следует отметить, что подобное отрицание икон и других внешних святынь не было для России нач. XVIII в. чем-то невиданным. Упоминания о «хуле» на святыни — одно из самых частых в делах о религиозных преступлениях. Однако мотивации каждого конкретного акта «хулы» могли быть различными: простая небрежность, невменяемое состояние (опьянение или ярость во время конфликта), своеобразная месть святым или Богу, дерзкая шутка, колдовство, благочестивый протест против недолжного почитания святынь или же идейное отрицание поклонения святыням [Смилянская, 2003, 265–283].
Перемены в управлении страной
В 1710 г. в России произошли серьезные перемены в системе управления страной. С нач. 1710 г. начала действовать система губерний: губернаторы получили в свое ведение почти все внутренние вопросы. Новая система плохо сочеталась с Ближней канцелярией: за деятельностью губернаторов требовался постоянный контроль, а монарх постоянно находился в разъездах.
В 1711 г., накануне Прутского похода, Петр I создал Правительствующий Сенат, призванный управлять страной в отсутствие царя. Сенаторами были назначены преимущественно аристократы или незнатные чиновники — креатуры влиятельных персон. Другим институтом, призванным контролировать управление страной, был фискалитет. Фискалы, особые чиновники во главе с обер-фискалом, назначаемым Сенатом, были призваны изыскивать злоупотребления в судах, управлении и сборе налогов, за что получали половину от наложенного штрафа [Бушкович, 2008, 307–311].
Наибольшим влиянием в политических делах в эти годы пользовался А. Д. Меншиков, который к тому времени был главой могущественной властной группировки. Царский фаворит осуществлял масштабные коррупционные схемы, посредством которых на счета князя в иностранных банках уходили огромные суммы. Однако появилась и угроза могуществу «светлейшего». В июне 1711 г. в Россию вернулся князь Я. Ф. Долгоруков, бежавший из шведского плена. Пожилой аристократ, глава могущественного и богатого рода, он обладал огромным влиянием и авторитетом. Войдя в состав Сената, Я. Ф. Долгоруков стал его неформальным лидером. Родич Я. Ф. Долгорукова В. В. Долгоруков командовал Преображенским полком и пользовался любовью царя за свою честность и прямоту [Бушкович, 2008, 312–313].
После Полтавы, в 1710 г., Петр отправил своего сына в поездку за границу. Алексей Петрович путешествовал по Германии и в 1711г. выступил в брак с принцессой Шарлоттой Вольфенбюттенской, сестрой жены императора Карла VI. Отправляясь в Прут-ский поход в 1711 г., Петр I объявил Екатерину Скавронскую своей будущей женой. В феврале 1712 г. состоялась свадьба Петра I с Екатериной. Екатерина всю жизнь была благодарна А. Д. Меншикову, в семье которого жила долгое время. Тем самым царский фаворит оказался связан с царской семьей [Бушкович, 2008, 313–314].
Давнее противоборство между А. Д. Меншиковым и его противниками теперь усиливалось противостоянием внутри царской семьи. По мере того как напряжение между придворными партиями нарастало, фискалы, обладавшие широкими полномочиями для расследования коррупционных дел, превращались в незаменимое оружие в борьбе политических противников. В 1712 г. фискалы начали расследование злоупотреблений с доходами от соляной монополии: Долгоруковы с трудом избежали обвинений [Бушкович, 2008, 319–320]. И если обер-фискал И. А. Нестеров был ближе к А. Д. Меншикову, то Я. Ф. Долгоруков нашел своего человека в каменщике Михаиле Андрееве-Косом, который поступил на фискальскую службу в 1712 г. [Серов, 2011, 22].
Михаил Косой, он же Михаил Андреев, родился в 1662 г. и трудился каменщиком в Москве. За участие в беспорядках во время стрелецкого бунта Михаил в 1683 г. был сослан в Сибирь. В кон. 1680-х гг. М. Косой вернулся в Москву — скорее всего, самовольно. Позднее он вошел в число учеников Дмитрия Дерюжкина-Тверитинова. 27 декабря 1711 г. Михаил Косой по сенатскому указу был отправлен в Санкт-Петербург. Здесь каменщик и стал фискалом — вероятно, по протекции одного из Долгоруковых [Серов, 2011, 21–22].
Митрополит Стефан (Яворский) против Сената
Перемены в государственном управлении — учреждение губерний и Сената — еще более осложнили церковные дела. С 1710 г., после учреждения губерний, епархиальные и монастырские доходы отправлялись не в Москву, а губернаторам, которые уже направляли их в Монастырский приказ. Таким образом, наложение системы из 8 губерний на 29 епархий еще больше запутало вопросы епархиального управления. Разделение касалось и Патриаршей области: теперь только Москва и ее ближайшая округа, как прежде, подчинялась патриаршему Казенному приказу, остальные территории отправляли средства в соответствующие губернии.
С 1711 г. Монастырский приказ был подчинен Сенату, а его глава И. А. Мусин-Пушкин стал сенатором. По замыслу Петра I все важные церковные вопросы отныне должны были решать совместно Освященный собор и Сенат. В 1711 г. по инициативе царя Освященный собор вместе с Сенатом приняли новые правила для поставления диаконов и иереев, направленные на ограничение числа клира.
Однако после отъезда монарха из столицы Сенат начал решать церковные дела без совета с духовными властями — причем не только финансовые вопросы, как в 1700-е гг., но и такие, как назначения настоятелей монастырей и архиерейские хиротонии [Харлампович, 1914, 511]. С октября того же года фискалы, подчиненные Сенату, получили право надзирать за церковными судами.
Столь явное подчинение Церкви не царю и не патриарху, а аристократам — сенаторам и губернаторам, вызвало резкое неприятие митр. Стефана (Яворского), которого поддержали многие архиереи. Рязанский митрополит вступил в конфронтацию с партией Долгоруковых.
17 марта 1712 г. митр. Стефан (Яворский) после службы в кремлевском Успенском соборе в день святого Алексия, человека Божия, — покровителя наследника престола, произнес эмоциональную проповедь, в которой не только открыто обличил фискалов как клеветников, но и осудил тех, кто разлучается с женами и не соблюдает посты. Затем проповедник вспомнил об отсутствующем наследнике и сочувственно уподобил св. Алексея и царевича Алексея [Соловьев, 1993, 549-550]. Проповедь, произнесенная в присутствии сенаторов, была неслыханным скандалом — в ней прямо подвергалась критике царские служители, а слова о разводящихся с женами и не соблюдающих постов можно было истолковать как намек на самого Петра I. На следующий день после проповеди сенаторы во главе с Я. Ф. Долгоруковым заявили митр. Стефану, что он возмущает народ, оскорбляет государя и его слуг, запретили митрополиту проповедовать до царского разрешения и отправили текст проповеди монарху [Бушкович, 2008, 377]. Ходили слухи, что царь в гневе и отстранит рязанского архиерея от церковных дел.
Однако Петр, находившийся в Померании, получив запись проповеди, отнесся к ней спокойно: только напротив слов о постах и женах приписал евангельские слова: «Перво одному, потом со свидетелями». Вскоре царь получил послание от самого митр. Стефана, в котором митрополит заверял Петра, что не дерзал касаться его лично, а лишь поучал народ жить по заповедям. Архиерей просил отпустить его на покой, в схиму, ссылаясь на свои предшествующие просьбы. Царь через адмирала Апраксина передал, чтобы митрополит оставался на посту — но лично писать не стал, о чем митрополит весьма сожалел. Царевич Алексей, находившийся в Германии, узнал о проповеди и просил прислать ее [Соловьев, 1993, 550–551].
Тем временем расклад политических сил в Петербурге менялся. Прежняя любовь царя к А.Д. Меншикову уходила. В 1713 г. царский фаворит, командовавший русской армией в Померании, пропустил в Штеттин прусские войска и передал формальную власть над городом Голштинии. Меншиков утверждал, что ничего не знал о прусско-голштинском соглашении, но царь имел убедительные доказательства того, что фаворит был подкуплен. Доверие Петра I к «Данилычу» было подорвано [Бушкович, 2008, 316–317].
В 1713 г. архангельский губернатор А. Курбатов (бывший человек Шереметева) подал челобитную на купца Д. Соловьева, наживавшегося на незаконной торговле зерном. Дмитрий Соловьев и его братья, Осип и Федор, были доверенными лицами А. Д. Меншикова и играли ключевые роли в его финансовых операциях. Вскоре Петр решил тайно проверить, как Меншиков управляет Ингерманландской губернией, и послал с тайным поручением царевича Алексея Петровича, который вернулся в Россию в 1713 г. В итоге Меншиков устоял: А. Курбатов был снят с поста губернатора [Бушкович, 2008, 316–317]. Жизнь Алексея Петровича в Санкт-Петербурге теперь весьма осложнилась: Меншиков интриговал против царевича и его жены, а между наследником и его супругой не было взаимопонимания. В июне 1714 г. Алексей Петрович отправился лечиться на воды в Карлсбад [Рамазанова, 2015, 418–419].
Однако подозрения царя в отношении Меншикова не исчезли — и их с готовностью укреплял В. В. Долгоруков. К тому же полное опустошение казны заставляло монарха задуматься о том, куда уходят средства. В итоге с 1713 г. фискалитет, возбуждавший дела о коррупции, стал важнейшим оружием в борьбе придворных группировок.
Дело Тверитинова
В этой напряженной обстановке интриг и расследований в Москве началось дело Дмитрия Дерюжкина-Тверитинова. К этому времени Дмитрий Тверитинов «разглагольствовал» о вере в Москве уже более десяти лет. Врач, лечивший высокопоставленных персон, чувствовал себя настолько уверенно, что позволял себе открытые насмешки над святынями. Ряды сподвижников лекаря росли, хотя число непосредственных учеников не превышало десятка.
Лекарь-еретик и его единомышленники с готовностью вступали в споры о вере, но доносить на него никто не решался. В 1710 г. в Москву из Переславля-Залесского приехал шурин Тверитинова иеродиак. Пафнутий (Олисов). Он написал книгу «Рожнец духовный» — диалог, в котором опровергались воззрения лекаря-еретика [Пафнутий Олисов, 1710]. Опираясь на «Рожнец», монах в беседах с горожанами обличал неправомыслие Тверитинова [Андреев А. Н., 2011, 273; Тихонравов, 1898, 189].
В 1711г. купец Иван Короткий познакомил иеродиак. Пафнутия с Леонтием Магницким — человеком ученым и влиятельным. С этого времени Магницкий вместе с вице-губернатором В. Ершовым начали борьбу с лекарем-еретиком. 26 января 1713 г. на обеде в доме Л. Магницкого состоялся многочасовой диспут лекаря, математика и вице-губернатора, в ходе которого стало ясно, что Тверитинов упорный и сознательный еретик. Магницкий и Ершов обратились к митр. Стефану (Яворскому), но тот, выслушав их с сочувствием, ответил, что не может действовать без письменного «извета». Тогда Л. Магницкий и В. Ершов пошли к самому И. А. Мусину-Пушкину: боярин вразумлял лекаря оставить свои взгляды, а тот изображал простеца, который недоумевает о сложных местах Писания. В итоге Мусин-Пушкин уверился, что лекарь — православный, и дело не стоит внимания, сам же Тверитинов хвалился, что он — апостол, победивший «иудейского судью»-боярина [Тихонравов, 1898, 192–196; Записка, 1882, 84–85]. Стоит отметить, что В. Ершов в это время находился в конфронтации с Сенатом и его ставленником московским губернатором А. П. Салтыковым [Бушкович, 2008, 322].
Внезапно позиции лекаря-еретика резко усилились. По именному царскому указу от 24 апреля 1713 г. Михаил Андреев-Косой был направлен в Москву ревизовать Ратушу и Большую Московскую таможню [Серов, 2011, 22]. Прибыв в Москву, фискал не скрывал своих еретических взглядов. Возможно, кружок Тверитинова существовал бы еще многие годы, пользуясь покровительством высоких персон. Однако один из последователей лекаря оказался настолько дерзок, что бросил вызов самому митрополиту.
Студент московской Славяно-Латинской академии Иван Максимов увлекся идеями Тверитинова, а затем начал высказывать их в стенах учебного заведения. Это привлекло к нему внимание начальства: сперва митр. Стефану (Яворскому) подал доношение игумен Рувим, а затем в апреле 1713 г. — префект московской Академии Иоасаф. Студент обвинялся в иконоборчестве, непочитании святых мощей и Церкви, а также в распространении таковых взглядов среди учеников. Распространение ереси в Славяно-Латинской академии, любимом детище митр. Стефана, не могло остаться без ответа. Архиерей арестовал студента на Патриаршем дворе и решил взяться за лекаря. Вскоре Тверитинова пригласили на обед у архимандрита Симонова монастыря Петра (Смелича), где присутствовали вице-губернатор В. Ершов и ректор Академии архим. Феофилакт (Лопатинский). Но лекарь, вопреки своему обыкновению, был молчалив, на поставленные вопросы о вере отвечал сдержанно и осторожно. Тогда митр. Стефан (Яворский) отправил арестованного Максимова в Преображенский приказ. Там студент под пыткой назвал нескольких единомышленников, в том числе Д. Тверитинова, его родственника Фому Иванова и некоего торговца Мартынова [Записка, 1882, 117-123]. Д. Тверитинов отрицал обвинения Максимова. Фома Иванов добровольно явился в Преображенский приказ и исповедовал, что не почитает иконы, святых и Евхаристию. При том о воззрениях Тверитинова Фома якобы не знал [Записка, 1882, 125–126].
Владыка Стефан (Яворский) произнес проповедь, в которой, не называя имен, обличал воззрения кружка Тверитинова. Между тем сам Тверитинов и его друг Косой тайно отправились в Санкт-Петербург. Здесь лекарь и фискал, встретившись с Я. Ф. Долгоруковым, представили дело так, будто митрополит начал дело о ереси из страха перед разоблачением фискалами его финансовых злоупотреблений. Князь Яков обещал «оборонить» Тверитинова и Косого. Сторону могущественного князя приняло большинство сенаторов, в том числе И. А. Мусин-Пушкин, а также невский архимандрит Феодосий (Яновский) [Тихонравов, 1898, 200–205].
По докладу Я. Ф. Долгорукова дело Максимова осенью 1713 г. было передано в Сенат, который долго рассматривал его и в июле 1714 г. нашел студента невиновным: якобы ректор и префект Академии мстили Максимову за то, что тот обличил их финансовые злоупотребления перед митр. Стефаном (Яворским). Приходской священник и духовник Д. Тверитинова подтвердили его православие, а архим. Феодосий (Яновский) причастил лекаря. Только Фома Иванов сам исповедал перед судом свои гетеродоксальные убеждения [Записка, 1882, 11–17].
Царь издал компромиссный указ: обвиняемые отсылались в Москву под начало владыки Стефана (Яворского) — митрополит должен был «освидетельствовать» православие Максимова и Мартынова, а Фому Иванова вразумить, и если тот не вразу-мится, то отдать гражданским властям. Тверитинов же признавался православным [Соловьев, 1993, 538–539].
Тогда митр. Стефан (Яворский) стал действовать самостоятельно: поместив обвиняемых в ереси под стражу в московских монастырях, владыка поручил расследование дела лекаря Патриаршему приказу. К осени 1714 г. были собраны десятки изветов на Тверитинова сотоварищи. В октябре 1714 г. митр. Стефан (Яворский) созвал в Москве Освященный собор, который осудил и отлучил от Церкви Дмитрия Твери-тинова и Михаила Косого, а архим. Феодосия (Яновского), причастившего лекаря-еретика, запретил в служении [Тихонравов, 1898, 230–239].
К тому моменту Фома Иванов, живший на исправлении Чудовом монастыре, улучив момент, изрубил резную икону свт. Алексея Московского, чьи мощи покоились в обители. Этот поступок никак оправдать было нельзя, и последовала жестокая кара: иконоборец был сожжен в срубе [Записка, 1882, 260–261, 264–265; Тихонравов, 1898, 226–229].
Однако другие обвиняемые в ереси икон не рубили и называли себя православными. Из многочисленных изветов на Тверитинова большая часть была со стороны духовенства, из мирян еретика обличили только Л. Магницкий, В. Ершов и Ф. Поликарпов. Тем самым, сенаторы вполне могли оставаться при мнении, что все дело — лишь интрига рязанского митрополита против фискалов [Тихонравов, 1870, 684–685].
Одним из доказательств вины Д. Тверитинова были его тетради, содержавшие выписки из Св. Писания, призванные подтвердить воззрения еретика. Для обличения «тетрадок» митр. Стефан (Яворский) начал писать книгу «Камень веры». Поскольку лекарь не отличался оригинальностью своих воззрений, то незаменимым подспорьем для митрополита были труды католических полемистов, особо Р. Беллармина, опровергавших доводы протестантов. «Камень веры» стал первым систематическим опровержением протестантских воззрений в русском богословии [Морев, 1904].
Коррупционный скандал и ослабление А. Д. Меншикова
Между тем ситуация в Санкт-Петербурге накалялась. В августе 1714 г. по доносу Михаила Андреева-Косого было возбуждено дело о махинациях с подрядами, по которым обвинялись сторонник А. Д. Меншикова адмирал Ф. М. Апраксин, а также враги Косого — вице-губернатор В. Ершов, Л. Магницкий и обер-фискал И. Я. Нестеров. В конце ноября 1714 г. фискалы вскрыли громадные злоупотребления А. Д. Меншикова и его сторонников. После праздника в честь именин фаворита царь публично в течение двух часов ругал светлейшего князя за вероломство и кражу миллионов. Дела было поручено расследовать комиссии во главе с В. В. Долгоруковым [Бушкович, 2008, 325–327].
В декабре 1714 г. Алексей Петрович вернулся в Россию [Рамазанова, 2015, 418–419]. Перед комиссией Долгорукова предстали и обвиняемые по делу о подрядах, которых в декабре 1714 г. доставили в Санкт-Петербург. Однако Леонтий Магницкий был хорошо знаком с царем: прибыв в Северную столицу, математик пробыл под стражей только один день и после беседы с Петром I был освобожден. Царь понял, что дело Тверитинова крайне запутано, и потребовал его повторного рассмотрения. В декабре 1714 г. монарх велел митр. Стефану лично прибыть в Петербург для повторного рассмотрения дела Тверитинова, а также привести важнейших свидетелей и обвиняемых. Митрополит не желал ехать, но царь настаивал [Тихонравов, 1898, 247].
Магницкий, старый знакомый архим. Феодосия (Яновского), попал в трудное положение и в итоге был вынужден общаться с архимандритом так, будто не знал о его запрете в служении. Более того, вскоре в Александро-Невский монастырь был переведен иеродиак. Пафнутий — первый обличитель Тверитинова. Инок трепетал, но Леонтий Магницкий утешал его, что архим. Феодосий — «политик» и преследовать за Тверитинова не будет. Лишь через несколько недель Магницкий решился сказать архим. Феодосию, что его считают еретиком, потому что он не почитает икон и причастил Тверитинова. Архимандрит был неприятно поражен и уверял товарища, что вовсе не еретик. Более того, архим. Феодосий даже хвалил иеродиак. Пафнутия за твердость в вере: «не токмо де гнев на тебя иметь, но еще и любить надобно весма что ты мною гнушался, понеже я в крайней государевой милости, а ты о том по ревности своей пренебрег» [Записка, 1882, 23-24; Тихонравов, 1898, 247-250]. В дальнейшем невский архимандрит благоразумно не принимал участия в деле Тверитинова.
В начале 1715 г. А. Д. Меншиков был принужден выплатить огромную сумму штрафа, а затем, по мере расследования, — платить новые и новые суммы. Пострадали ближайшие соучастники и клиенты фаворита [Бушкович, 2008, 325-335]. Петр I, потрясенный масштабами коррупции и неэффективностью Сената, начал размышлять над реформой государственного управления. К лету 1715 г. позиции некогда всемогущего А. Д. Меншикова ослабели до крайности, а влияние Долгоруковых усилилось [Бушкович, 2008, 339–344].
Дело Тверитинова, столь переплетенное с политическими интересами, также ждало своего разрешения. В марте 1715 г. владыка Стефан (Яворский) прибыл в столицу. Расклад сил был не в пользу митрополита. Однако митрополита поддержали недруги Долгоруковых Ф. М. Апраксин и А. Д. Меньшиков, а также царевич Алексей Петрович и кабинет-секретарь царя А. В. Макаров, считавший Косого злым и хитрым человеком [Записка, 1882, 27–28; Тихонравов, 1898, 257–261].
Первое заседание Сената сопровождалось криками и спорами: сенаторы обвиняли владыку Стефана в гордости, клевете, подкупе лжесвидетелей, вспоминали проповедь о фискалах 1712 г.; рязанский митрополит отвечал, что сенаторы не имеют права вмешиваться в духовные дела, а должны лишь судить тех, кого им пришлет церковная власть. За митрополита вступились А. Д. Меньшиков и Ф. М. Апраксин, напоминавшие, что царь просил «по настоящему делу суд творить, а не контритися» [Записка, 1882, 28–31; Тихонравов, 1870, 262–264].
Затем последовали очные ставки Тверитинова и свидетелей обвинения, самым красноречивым из которых был Леонтий Магницкий [Записка, 1882, 28–105]. Однако московский лекарь остроумно сослался на то, что митрополит, выискивая ересь в выписках из Библии, сам благословил распространение лютеранской книги. Действительно, в 1711 г. свт. Иоанн (Максимович) посвятил митр. Стефан (Яворскому) свой труд «Богомыслие в пользу правоверных», представлявший собой дополненный перевод сочинения лютеранского богослова Иоанна Герхарта [Иоанн Тобольский, 1711].
-
22 июня очные ставки окончились, но дело решено не было. И. А. Мусин-Пушкин указал Ф. Поликарпову, возглавлявшему Московский Печатный двор, чтобы тот не печатал «Камень веры» до тех пор, пока митр. Стефан не исправит обвинения Тверити-нова в ереси [Тихонравов, 1898, 264–304].
Но осенью 1715 г. в России обострился вопрос о престолонаследии. 15 октября Шарлотта, супруга Алексея Петровича, родила сына, названного Петром. Через 17 дней родился сын Петра I и Екатерины, также названный Петром. Ситуация с престолонаследием радикально изменилась: теперь был не один, а три потенциальных наследника престола [Бушкович, 2008, 250-255]. Сам Петр желал видеть преемником продолжателя своих трудов, но не был уверен, что Алексей Петрович хочет и может взять на себя дело отца, а оба других наследника были младенцами. Вопрос о престолонаследии был весьма острым: Петр I никогда не отличался крепким здоровьем и страдал хроническим заболеванием, вероятно гепатитом [Неделько, 2005, 81–88].
Петр берется за церковные дела
Постоянные известия о нестроениях в делах веры побудили Петра I осенью 1715 г. заняться церковными делами. В январе 1716 г. именным указом он повелел решить дело Тверитинова: покаявшихся отослать в службу к архиереям, нераскаянных — казнить [Записка, 1882, 106]. Однако Я. Ф. Долгоруков затягивал ход дела, на что указывал другой сенатор, П. Ф. Апраксин, в мае 1716 г. [Записка, 1882, 26]. Впрочем, лекаря не отпускали на поруки: в Москве его жена и дети бедствовали. Фискал Михаил Косой вел противоборство с обер-фискалом И. Я. Нестеровым [Серов, 2011, 23].
Тогда же, в январе 1716 г., Петр I в письме к митр. Стефану (Яворскому) просил добавить к архиерейскому обещанию пункты, в которых, помимо прочего, ставленник обещал анафематствовать кого-либо, признавая, что только тот является явным еретиком или преступником, кто трижды отказался примириться с Церковью, — и при том анафематствовать лично, а не с семьей, «вседомовно» [Живов, 2011, 206].
В июне 1716 г. митр. Стефан (Яворский) просил царя отпустить его в Нежин на освящение монастыря [Записка, 1882, 262]. Разрешение было дано, и архиерей посетил родные края. Здесь, в Нежине, митрополит встретился со своим старым знакомым иером. Стефаном (Прибыловичем), ученым и преподавателем Московской академии, некоторое время жившим в Александро-Невском монастыре. В 1715 г. иером. Стефан (Прибылович) был послан на игуменство в Змиев монастырь. Однако ученый старец здесь не ужился с братией, привыкшей к свободной жизни. Когда в июне 1716 г. в Нежин приехал митр. Стефан (Яворский), то змиевская братия подала на своего игумена челобитную, упрекая его в нарушении преданий свв. отец. Митрополит Стефан простил иером. Стефана (Прибыловича), но определил его вновь в Киев-Печерскую братию. Это незначительное дело вскоре обернется для игумена куда большими злоключениями [Токарев, 1888, 5–7].
Ходили слухи, что митр. Стефан (Яворский) будет избран патриархом — царь любил рязанского митрополита и доверял ему: действительно, митр. Стефан, несмотря на свое недовольство, не подводил царя в важных делах и терпеливо нес на себе огромный труд. Однако последующие события заставили Петра I изменить свой подход к нуждам Церкви.
Летом 1716 г. возникли проблемы с поставками провианта для армии Ф. М. Апраксина: Сенат не смог наладить снабжение, и войска оказались под угрозой гибели. Но петербургский губернатор А. Д. Меншиков своими решительными действиями (и вопреки воле Сената) смог спасти армию. Тем самым светлейший князь вновь вернул себе расположение Петра I [Бушкович, 2008, 358-359]. Летом 1716 г. Петр I отправился в свое второе длительное путешествие по Европе. А. Д. Меншиков вернулся в столицу в августе того же года.
Противостояние между А. Д. Меньшиковым и Сенатом, где заправляли Долгоруковы, накалялось. Тогда же, в августе, царевич Алексей Петрович получил от отца письмо, призывавшее наследника либо присоединиться к отцу в Дании и сопровождать его во всех походах, либо же принять решение постричься в монахи и сообщить, в какой монастырь он намерен удалиться [Бушкович, 2008, 364–365]. Царевич ответил отцу, что желает принять постриг, но сам решил продолжить борьбу, найдя опору в партии Сената. Вскоре наследник российского престола тайно отбыл в Вену всего с четырьмя спутниками.
Дело игумена Стефана (Прибыловича)
Борьба вокруг дела Тверитинова продолжалась и в отсутствие монарха. Противникам лекаря-еретика удалось отыскать нового свидетеля: игум. Стефана (Прибыло-вича), который как преподаватель Московской академии в 1710–1711 гг. диспутировал с Тверитиновым об иконах. В начале 1717 г. А. Д. Меншиков вызвал игум. Стефана (Прибыловича) в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь.
Однако 5 февраля светлейший князь получил ответ от киевского губернатора Д. М. Голицына, в котором сообщалось, что игум. Стефан (Прибылович) «еретичеству-ет против восточной церкви». 22 февраля Сенат, заслушав письмо Голицына, повелел немедленно доставить игум. Стефана (Прибыловича) в столицу. В апреле ученый монах прибыл в Петербург, вместе с ним киевский губернатор выслал Сенату «ведения» наместника Змиева монастыря и печерского архимандрита Иоанникия (Сенюто-вича) с соборными старцами. Змиевский наместник сообщал, что иером. Стефан, живя в обители, попирал уставы свв. отцов — в Великий пост 1716 г. вымарал из Часослова строки молитвы Манассии: «Авраама, Исаака, Иакова несогрешивших пред тобою», а печерские старцы — что иером. Стефан отказывался читать акафист перед образом Богоматери, а будучи принужден к тому, отказывался произносить в молитве слово «боголепно» [Токарев, 1888, 5–6].
-
24 мая игум. Стефан (Прибылович) был допрошен в сенатской канцелярии. Ученый игумен показал, что ни в чем не отступал от православной веры, а обвинения основаны на пристрастном толковании его слов: слова из молитвы он вычеркнул, потому что и свв. праотцы не были безгрешны, а в молитве к Богородице лишь заменил недолжное выражение «боголепной» на должное «благолепной». По последнему игум. Стефан советовался с михайловским настоятелем Варлаамом (Леницким), который, как знаток греческого языка, сказал, что слово следует переводить «богоподобно». Змиевские монахи выступили против настоятеля потому, что тот не давал братии пьянствовать, а в Киево-Печерском монастыре игум. Стефан еще Великим постом служил литургию без всяких препятствий. К своему ответу игумен приложил длинное письменное оправдание, содержавшее богословскую аргументацию его правоты по обоим обвинениям [Токарев, 1888, 7–8]. Оправдания не помогли. 7 июня 1717 г. Сенат принял окончательное решение: игум. Стефан (Прибылович) был признан виновным и был отправлен под стражей в Антониево-Сийский монастырь [Токарев, 1888, 8].
Тем временем в мае 1717 г. в Москве был обнаружен новый еретический кружок, лидером которого называлась Настасья Зима, дочка алатырского дьячка. В июне 1717 г. нераскаявшиеся еретики были переданы в Преображенский приказ, где, после пыток, повинились. Их дальнейшая судьба неизвестна из-за утраты следственного дела [Соловьев, 1993, 271].
Дело царевича Алексея и финал дела Тверитинова
В октябре 1717 г. Петр I вернулся в Санкт-Петербург. Напряженная ситуация с наследником престола вынудила царя проявить внимание к церковным вопросам и пойти на уступки митр. Стефану (Яворскому). 29 ноября 1717 г. Петр I решил дело Тверитинова: лекарь был отослан к митр. Стефану в лекарскую службу, а Иван Мартынов — к другому архиерею, «ежели у них в православной христианской вере какое сомнение, от того сомнения отводить и того за ними велеть смотреть» [Записка, 1882, 267]. После того как 8 января Д. Тверитинов прибыл в Москву, митр. Стефан посадил лекаря в заключение.
После окончания дела царевича Алексея, в мае 1718 г., Тверитинов был отпущен на свободу — хотя митрополит отказался снять с него анафему. Лекарь пытался получить разрешение исповедоваться и причащаться, обращаясь в Духовный приказ в марте 1719 г., в Св. Синод в марте 1721 г. и в нач. 1722 г. Последнее ходатайство имело последствие — однако дело Тверитинова находилось в Сенате и только в 1724 г. было передано в Св. Синод. Пока шло рассмотрение, Тверитинов овдовел, однако вторично вступить в брак он, как отлученный от Церкви, не мог. Тогда лекарь обратился в Св. Синод с просьбой дозволить брак, подкрепив ее письменным исповеданием православной веры, скрепленным клятвой [Записка, 1882, 268–272].
К этому времени главный враг Тверитинова митр. Стефан (Яворский) скончался, а старый друг лекаря М. Андреев-Косой возвысился: в 1722 г. началось «дело фискалов», по которому А. Я. Нестеров оказался под стражей. Все обвинения в адрес Косого были сняты, а генерал-фискал (новая должность, учрежденная в ходе дела) А. А. Мя-кинин благоволил к Косому.
-
10 февраля 1723 г. Св. Синод разрешил Тверитинова от клятвы и принял в церковное общение [Записка, 1882, 267]. После этого лекарь просил Св. Синод, чтобы во всех московских церквах объявили о его православии, а также указом, и чтобы в «Камне веры» было исправлено место, называющее Тверитинова еретиком. Первая просьба была исполнена 13 марта 1723 г., вторая — нет. Дмитрий Тверитинов, отрекшийся от прежних взглядов, спокойно жил в Москве вплоть до конца 1730-х гг. Правда, теперь кружков он уже не собирал.
Иначе сложилась судьба товарища Тверитинова, Михаила Косого. В январе 1724 г. А. Я. Нестеров был казнен через колесование, а 4 июня 1724 г. М. Андреев-Косой был назначен обер-фискалом. Добившись высокой должности, Косой начал злоупотреблять своими полномочиями и уже 22 февраля 1725 г. сенатским указом был освобожден от должности, а в 1727 г. сослан в Сибирь на вечное поселение, где и умер [Серов, 2011, 24–25].
Выводы
Отказавшись от выборов нового патриарха в 1700 г., Петр I ослабил центральную власть в Русской Церкви: полномочия патриарха были разделены между митр. Стефаном (Яворским) и Монастырским приказом. При этом формально монарх действовал в рамках своих традиционных полномочий. Ситуация изменилась в начале 1710-х гг.: царь и его наследник проводили много времени за границей, а управление государственными делами оказалось в руках Сената и губернаторов. Попытка сенаторов-аристократов из «партии Долгоруковых» распространить контроль фискалов на церковные финансы была воспринята митр. Стефаном (Яворским) как незаконное покушение светских лиц на дела духовной власти.
Дело Д. Тверитинова стало следующей вехой этого конфликта. Митрополит Стефан (Яворский) принял сторону обвинителей Тверитинова и добился его осуждения Освященным собором, а сенаторы Я. Ф. Долгоруков и И. А. Мусин-Пушкин поддержали лекаря. Тем самым теперь сенаторы оспаривали исконное право архиереев отделять истинную веру от заблуждения. При этом Д. Тверитинов и М. Косой намеренно обостряли противоречия между Сенатом и митр. Стефаном (Яворским), изображая себя невинными жертвами злобного митрополита.
Может ли Сенат оправдать соборно осужденного еретика? Может ли Освященный собор признать еретиком человека, оправданного Сенатом? Обе стороны конфликта апеллировали к Петру I. Монарх, занятый внешнеполитическими делами, пытался найти компромиссное решение и выступал как арбитр. После дела царевича Алексея, ослабившего позиции Долгоруковых, Петр I уступил митрополиту и передал ему лекаря-еретика. Тем самым духовная власть одержала победу над аристократией, но лишь благодаря личному вмешательству государя. Нельзя сказать, что в деле Тверитинова проявилась особая симпатия Петра I к вольнодумцам или протестантам, равно как нет оснований видеть в судебном процессе борьбу неких «протестантской» и «католической» партий русской элиты.
Дело Дмитрия Тверитинова показало Петру I, что сохранение прежнего способа управления церковными делами приведет к конфликтам, а властные полномочия Сената должны быть уравновешены равным по статусу церковным учреждением. Решение проблемы монарху предложил архиеп. Феофан (Прокопович) в «Духовном регламенте» 1718 г.: Святейший Правительствующий Синод стал своего рода постоянным Освященным собором, «крайним судией» которого был не Сенат, а лично монарх.