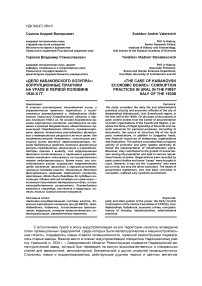"Дело кабаковского хозупра": коррупционные практики на Урале в первой половине 1930-х гг
Автор: Сушков Андрей Валерьевич, Терехов Владимир Станиславович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены повседневная жизнь и управленческие практики партийных и хозяйственных руководителей г. Надеждинска (Кабаковска) Уральской (Свердловской) области в первой половине 1930-х гг. На основе документов органов партийного контроля, находящихся на хранении в Центре документации общественных организаций Свердловской области, проанализированы факты незаконного расходования финансовых и материальных ресурсов в личных целях. Как свидетельствуют документы, источником роскошной жизни местной партноменклатуры, помимо бюджетных средств, являлись финансовые ресурсы предприятий, организаций и учреждений. Авторы пришли к выводу, что коррупционные действия хозяйственных и партийных руководителей негативно сказывались на осуществлении планов индустриализации. Кроме того, они способствовали росту социальной напряженности среди населения, приводили к серьезным репутационным потерям власти. Незаконные действия фиксировались органами партийного контроля, некоторые «дела» были доведены до судебных инстанций. Однако под суд попадали не «заказчики» - основные получатели материальных благ, а лишь непосредственные исполнители. Руководители властных структур, уличенные в коррупции, понесли только символическое наказание.
Партийно-государственная система власти, комиссия партийного контроля при цк вкп(б), урал, надеждинск, кабаковск, хозяйственные преступления, коррупция, история промышленности, индустриализация, управленческие практики
Короткий адрес: https://sciup.org/149134867
IDR: 149134867 | УДК: 94(47).084.6 | DOI: 10.24158/fik.2020.9.17
Текст научной статьи "Дело кабаковского хозупра": коррупционные практики на Урале в первой половине 1930-х гг
С вступлением Урала в эпоху индустриализации на его территории началось возведение сотен промышленных предприятий, среди которых были металлургические и машиностроительные гиганты, создавались новые отрасли промышленности, коренной реконструкции подвергались старые заводы. Важное место в планах индустриализации отводилось Надеждинскому району Уральской (с 1934 г. – Свердловской) области. Реконструкции подвергся Надеждинский металлургический завод, который был переведен на выпуск высококачественных и специальных сталей для авиационной, автотракторной, боеприпасной и других отраслей промышленности. Строились новые и модернизировались действующие рудники черных и цветных металлов.
Население Надеждинска стремительно выросло: в период с 1928 по 1933 г. число жителей почти удвоилось, с 33 тыс. до 62 тыс. чел. [1, с. 76, 96; 2].
С высоких партийных трибун звучали отчеты о достигнутых уральскими большевиками успехах. «Резко изменился Надеждинский район, – докладывал на XII Уральской областной партконференции в январе 1934 г. первый секретарь обкома ВКП(б), член ЦК ВКП(б) Иван Дмитриевич Кабаков. – Заново реконструируются рудники цветной металлургии. Построен штанго-волочильный цех на 36 тыс. т калиброванных сталей. Достаточно полно реконструируются Богословские копи. Одного только перечисления строительных работ, которые проводятся здесь, достаточно для того, чтобы видеть движение, которое сделано в этом далеком северном районе» [3].
«Уралобком партии, товарищ Кабаков лично уделял очень много внимания Надеждинскому району и заводу, – говорил с трибуны конференции председатель Надеждинского горсовета Козырьков. – В результате Надеждинский район выведен из состояния прорывов, в котором он находился в течение нескольких лет. 1933 г. является первым годом побед Надеждинского района в течение почти всей первой пятилетки. Надеждинский завод в 33-м году не только ликвидировал прорыв, но и вошел в шеренгу передовых заводов СССР в своих победах в борьбе за выполнение промфинплана. Надеждинский завод досрочно выполнил свой производственный план в 33-м году» [4].
Сразу после областной партконференции в честь «вождя уральских большевиков» были переименованы г. Надеждинск и район, центром которого он являлся: отныне они стали Кабаковском и Кабаковским районом. Заодно его имя было присвоено старому Надеждинскому заводу [5].
Однако победные реляции на областной партконференции имели мало общего с реалиями, ведь воплощение планов индустриализации в жизнь проходило весьма непросто. Для металлургического завода основными проблемами являлись как невыполнение производственных планов по номенклатуре, так и выпуск бракованной продукции. Потребители заваливали завод рекламациями. Представители Лысьвенского завода заявляли, что обычный брак по полученному из Надеждинска металлу составлял 26 %, представители Высокогорского и Невьянского механических заводов говорили о 27 % и 40 % брака соответственно. Недопоставки стали, а также высокий удельный вес бракованной продукции срывали выполнение производственных программ заводами автотракторной и военной промышленности. Заводы-потребители несли в результате этого огромные экономические потери. Только Высокогорский механический завод (г. Нижний Тагил), недополучивший в первом квартале 1934 г. 483 т снарядной заготовки и 425 т стали № 23, а из полученных заготовки и стали отбраковавший 23,9 % и 10,7 % соответственно, в результате вынужденного простоя понес убытков более чем на 100 тыс. р. [6].
Систематически не выполняли производственные планы Богословские каменноугольные копи: добывалось и отгружалось угля лишь 80 % от плана, экскаваторы были задействованы в угледобыче только на 50 % от плановых показателей. Капиталовложения в Богословское рудоуправление за 1930–1933 гг. увеличились на 326 %, количество рабочих увеличилось на 156 %, а добыча руды выросла только на 22 % (планы по добыче выполнялись лишь на 70 %). Срывались планы по строительству Турьинских медных рудников и рудников по добыче бокситов. Не выполняла планы лесная промышленность Надеждинского района, ввиду чего простаивали уг-левыжигательные печи и в конечном счете серьезно лимитировались поставки древесного угля на металлургический завод [7].
Хозяйственные организации сталкивались с многочисленными проблемами, препятствовавшими успешной реализации поставленных перед ними задач. Пожалуй, общими для всех проблемами являлись огромная текучесть и острая нехватка рабочих кадров. Ужасающие жилищно-бытовые условия, систематические, порой многомесячные задержки выдачи зарплаты, необоснованно дорогие и вместе с тем низкокачественные обеды в столовых, перебои в снабжении продовольственными и промышленными товарами не способствовали закреплению кадров. В Надеждинске не было ни водопровода, ни канализации, дым с завода застилал жилой сектор. Растянутый на 9 км город не имел общественного транспорта, да и замощенных улиц, по которым бы мог передвигаться этот транспорт, тоже не было. Из города бежали не только рабочие: из направленных в Надеждинск 48 врачей остались лишь двое, стремились покинуть город и учителя [8].
Но далеко не все находились в равных условиях: местное партийное и советское руководство не испытывало многих проблем, с которыми сталкивалось рядовое население. В Надеждин-ске-Кабаковске созданием благоприятных условий для местного начальства занималось хозяйственное управление, созданное в апреле 1933 г. при горсовете. На некоторое время хозупр переподчинили горкому партии, но вскоре его передали обратно. Частая смена подведомственности была вызвана, судя по всему, необходимостью скрыть расходование средств. По крайней мере, известно, что работники хозупра уничтожали соответствующие финансовые документы и умышленно запутывали учет доходов и расходов. Так, «комиссия по улучшению культурно-бытовых условий партактива», состоявшая из трех работников хозупра, постановила: «Документы по израсходованию средств, акты на сумму р. 13 473-92 сжечь. Оправдательным документом считать данное решение» [9]. По этой причине подлинные масштабы денежных потоков, проходивших через хозупр Надеждинска-Кабаковска, остались невыясненными.
Известно лишь, что на обслуживание партактива было израсходовано не менее 73 700 р., на проведение пленумов и конференций – 8 000 и почти столько же – на празднование годовщины создания органов милиции и ГПУ. Часть партхозактива обслуживалась в столовой и получала различные товары из магазина по значительно сниженной стоимости. Уценялись для последующей реализации начальству такие продукты, как масло, сыр, консервы. Стоимость снижалась в два-три раза и более (к примеру, сыр – в шесть раз, с 30 р. за килограмм до 5 р.). Кроме того, руководящая верхушка часть промтоваров и продуктов получала бесплатно. Бывший секретарь горкома Жданов получил бесплатно товаров и продуктов на 3,5 тыс. р., председатель горсовета Лаптев – почти на 1 300 р., заместитель секретаря горкома Колесников – почти на 1 700 р., председатель городской КК-РКИ Деменёв – на 1 300 р., начальник отдела ГПУ Антонов – на 1 500 р., секретарь парткома металлургического завода Долгов – почти на 1 900 р. При «кормушке» состояли также редактор городской газеты «Пролетарий» Альшер, прокурор Ершов, заместитель начальника отдела ГПУ Козлов и другие «нужные люди» [10].
Для удобства начальства была организована доставка продуктовых посылок непосредственно на квартиры. Осуществление этой ответственной задачи заведующий хозупром и управляющий делами горкома партии Н.В. Вагин возложил на свою подчиненную – заведующую магазином партактива А.И. Воронову. При этом дал ей недвусмысленные указания, как это следует делать: в ночное время, «конспиративно», стараться быть незамеченной. Кабаковскому начальству доставляли деликатесы того времени: рыбные консервы, консервированные овощи и фрукты, печенье, конфеты. Иногда докладывали мясную продукцию [11].
Тридцатилетний секретарь горкома партии М.А. Жданов получал от хозупра денежные пособия и содержал за счет этого же управления личную прислугу. Его преемник И.А. Спиров традиции не прекратил: за счет хозупра получал бесплатно продукты и заказывал одежду в пошивочной мастерской. Когда кабаковское начальство – секретарь горкома Спиров, зампред горсовета Собенин, директор металлургического завода Рязанцев и секретарь парткома завода Долгов отправились в Свердловск, то хозупр скрасил их командировочные будни коньяком, кагором и «достаточной закуской» [12].
Приезжавшее в Кабаковск областное начальство тоже обслуживалось хозупром. В частности, управление снабдило директора завода Рязанцева продуктами и вином, когда тот накрывал стол для прибывшего второго секретаря обкома ВКП(б) В.А. Строганова (впоследствии счет магазина № 3 Уралторга был изъят заведующим промышленным отделом обкома Г.Г. Яном, приезжавшим в Кабаковск «расследовать» факты коррупции). Пользовался хозупровскими продуктами и председатель облпрофсовета А.И. Финьковский [13].
Позднее аппарату уполномоченного Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Свердловской области удалось установить, откуда брались средства на роскошную жизнь надеждинского (кабаковского) начальства. Важным источником пополнения бюджета местного хозупра, точно так же, как это было в Свердловске, Перми, Нижнем Тагиле и других городах и райцентрах области [14, с. 80–101; 15, с. 111–113], выступали местные предприятия, организации и учреждения.
В целях получения средств хозупр проводил спекулятивные операции. Секретарь горкома ВКП(б) Михаил Афанасьевич Жданов принял самое непосредственное в них участие. Именно Жданову удалось бесплатно взять с Сосьвинского строительства 1,2 т гвоздей и посредством хозупра продать их тресту «Нарпит» и управлению Богословско-Сосьвинской железной дороги на общую сумму в 5 881 р. При этом фактическая стоимость гвоздей составляла около 1 000 р.
Вскоре городскому начальству подвернулась еще одна возможность подзаработать. Хо-зупру ЦИК СССР для каких-то целей понадобились сотни тонн чугуна, и с этой просьбой он обратился к председателю Уральского облисполкома М.К. Ошвинцеву. Ошвинцев дал соответствующее задание заведующему хозупром облисполкома Л.О. Капуллеру, а последний вышел на надеждинского секретаря Жданова. Секретарь горкома договорился о получении с металлургического завода 225 т чугуна стоимостью без малого 20 000 р. Деньги за чугун завод не получил и списал их как безнадежную задолженность. А нажился на махинациях вновь Надеждинский хо-зупр, который получил от Капуллера за чугун 1 676 р. и еще на 12 352 р. муку, икру, масло, колбасу, консервы, фрукты, коньяк и т. д. Продукты поделило между собой городское начальство.
ОРС металлургического завода регулярно поставлял в магазин партактива продукты из фондов рабочего снабжения, снижая их себестоимость, а то и вовсе бесплатно. В ноябре 1933 г. ОРС отпустил продуктов на 16 тыс. р., включая муку и консервы, в марте 1934 г. – 100 кг крупы,
80 кг сахара. В апреле 1934 г. ОРС выдал мяса 1 250 кг, масла – 50 кг, молока – 1 881 л, сахара – 300 кг. Между тем весь завод в апреле получил менее 10 000 кг мяса и сумел обеспечить им, и то не полностью, лишь рабочих горячих цехов, молоко даже горячие цеха получали значительно меньше потребностей и с большими перебоями, а масла рабочие не увидели совсем.
Большие денежные суммы Надеждинский (Кабаковский) хозупр получал от хозяйственных организаций: тот же металлургический завод выделил 17 800 р., лесоотдел Востокостали – 18 000 р., Стальстрой – 5 000 р. и т. д. Всего с предприятий удалось собрать 57 100 р. [16, с. 74–75; 17].
Полученные от лесоотдела Востокостали 15 000 р., выделенные для премирования работавших на лесозаготовках коммунистов, заместитель секретаря горкома ВКП(б) Покровский пустил на приобретение курортных путевок. Те же, кому эти деньги предназначались, не получили ни копейки [18].
Крупным источником поступления средств в хозупр явились доходы цирка, летнего кинотеатра и буфетов (доход с цирка составил 101 500 р.). Полагающихся налогов хозупр не платил или платил лишь незначительную их часть. Так, налог с цирка составил 86 560 р., а перечислено было только лишь 18 700 р. Налог с буфетов в сумме 9 376 р. вовсе не перечислялся [19].
Коррупционные практики во властных структурах способствовали их широкому распространению в хозяйственных организациях района, в том числе в торгово-снабженческих структурах. Только в течение первого полугодия 1934 г. состоялись 34 судебных процесса, фигурантами которых выступали работники ОРСа металлургического завода, 35 процессов прошли по ОРСу лесного отдела, 16 процессов – по системе Нарпита, 120 судебных процессов – по всем снабженческим организациям района. Менее чем за год, начиная с сентября 1933 г., руководство ОРСа металлургического завода менялось трижды, каждый раз с привлечением к уголовной ответственности за злоупотребления и хищения. В ответ на упреки в адрес подчиненных новый заведующий ОРСом прямо заявил: «Держу я этих жуликов сознательно, так как лучших нет» [20].
В Кабаковском отделении Хлеботреста было похищено и «безнарядно» израсходовано 187 т хлеба. Директор, бухгалтер и несколько работников пекарни были привлечены к уголовной ответственности.
В руководстве треста «Нарпит» хищение денежных средств было налажено путем подделки финансовых документов. Кроме того, организованная группа из 11 работников треста занималась хищениями муки (в общей сложности было похищено 40 мешков). В Турьинском отделении треста работники занимались хищениями продуктов (хлеба похищено почти 4 т) и финансовыми растратами (более 7 тыс. р.). Фигуранты уголовных дел получили по нескольку лет лишения свободы [21].
Руководство Бокситстроя часто практиковало банкеты, расхищало государственные средства. Начальник строительства П.А. Туркин изымал из кассы строительства денежные средства, забирал продукты из ОРСа в личное пользование, нанеся тем самым ущерб в общей сложности более чем на 5,5 тыс. р., его заместитель Толкачёв, занимавшийся тем же, – более чем на 3 тыс. р. В больших количествах расхищались продовольственные карточки. Кроме того, перерасход на административно-хозяйственные нужды составил почти 40 тыс. р., перерасход по зарплате – 77 тыс. р. Но то были мелочи, если учитывать, какие суммы уходили со строительства в неизвестном направлении. Как выяснилось, из выделенного Бокситстрою 1 млн р. непосредственно на строительство было затрачено лишь около 300 тыс., а остальные средства, т. е. около 700 тыс., были списаны на иные цели, включая «разъезды» и «командировочные». Следует полагать, что часть этих огромных средств была израсходована на то, чтобы партийные и другие инстанции «не замечали» проблем на строительстве, которое топталось на месте. Известно, что большие премии от Туркина получали парторг Шипулин, председатель рабочкома Баранов и даже инспектор милиции Богошин. Комиссии Главалюминия Наркомата тяжелой промышленности СССР, прибывшей из Москвы в составе четырех человек для проверки Бокситстроя, в магазине ОРСа было бесплатно выдано продуктов более чем на 2 тыс. р. (комиссию обеспечивали не только мясом и выпечкой, но и кетовой икрой, ветчиной, колбасами, сыром, маслом, печеньем, конфетами и прочими деликатесами). Заместитель прокурора города Норицин, отправившийся на Бокситстрой расследовать имевшиеся там непорядки, не удержался от гостеприимства Туркина и принял участие в пьянке. Пьянствовала также совместная комиссия из представителей Главалюминия и областного совконтроля, приехавших обследовать строительство. Горкомовская комиссия оказалась более стойкой к соблазнам, однако ее выводы бюро горкома ВКП(б) обсуждать отказалось. Понадобилась новая комиссия, которая вновь подтвердила факты, однако за это время многие причастные к хищениям успели скрыться. В частности, прихватив 5 тыс. р. из государственных средств, сбежал заведующий горным цехом Воронов [22].
Наживались на государственном имуществе если не все, то многие имевшие доступ к материальным ресурсам. В частности, заведующий Турьинским детским домом Мусанин продал 14
казенных коров и с вырученными деньгами скрылся. У завхоза Кабаковского детдома Суркова была выявлена недостача 2 т хлеба [23].
Прокурорские работники тоже были вовлечены в коррупционные взаимоотношения, и потому борьба с расхитителями велась весьма избирательно. Как выяснилось, секретарь городской прокуратуры Дьяченко подделывала документы, за вознаграждение составляла апелляционные жалобы попавшим под уголовное преследование за коррупционные преступления. Помощник прокурора Зубовский из кожи, предназначенной для рабочего снабжения, сшил себе и жене кожаные пальто, а у заведующего хозупром Вагина получил денежную сумму, на которую приобрел зимние вещи, включая дорогостоящие фетровые бурки [24]. Как уже говорилось выше, на довольствии у хозупра состоял и сам прокурор.
Неудивительно, что многие «сигналы» о различных злоупотреблениях оставались без какой-либо реакции со стороны властных структур и правоохранительных органов. Какие-то «сигналы», в том числе направленные в местные газеты, «терялись». На другие не обращали внимания. Как, например, на указания инструктора обкома ВКП(б) С.Ф. Митрофанова о грубых нарушениях финансово-сметной дисциплины: о «черной кассе» в Кабаковском горкоме, поборах с хозяйственных организаций, перерасходе средств [25].
Местные коммунисты, проявлявшие «политическую бдительность», призывы к которой звучали из Москвы, серьезно рисковали карьерой и своим материальным благополучием.
К примеру, так произошло с Александрой Ивановной Вороновой – заведующей магазином партактива. Воронову вызывали к председателю райисполкома и секретарю горкома для разъяснений, как и кому из местного начальства следует развозить продукты. Та же возмутилась указаниями и прямо заявила начальству: «Вы только занимаетесь распределением продуктов, а когда же будем выполнять план лесозаготовок?» На что услышала: «Ты политически неграмотная, тебе что велят, то и делай». А вскоре сняли с работы завмага и вывели из состава кандидатов в члены президиума горсовета. Воронова не успокоилась и сообщала о самоснабжении местного начальства старшему судье Островскому, помощнику областного прокурора Свалову и районному прокурору Ершову. Свалов заявил Вороновой, что раз в ее заявлении фигурируют руководящие работники Надеждинска, то он будет действовать через «областные организации», а заявительницу предупредил, чтобы об этом не распространялась. Не дождавшись ответа, Воронова попыталась рассказать о злоупотреблениях во время чистки партии. На что услышала от редактора газеты «Пролетарий» Альшер (которая также кормилась с рук местного начальства), что эти выступления «чуждые» и «нездоровые», а комиссия по чистке запретила Вороновой выступать в прениях. Однако и это не остановило упрямую «общественницу» (как она сама себя называла), которая решила добиваться правды у уполномоченного КПК Папардэ [26].
С беспартийными заявителями тем более не церемонились. В частности, дорого обошлась борьба с «расхитителями советского добра» для сторожа Южнозаозёрского продснаба (Турьинск) Кузьминой. Последняя работала в трех магазинах, и однажды ночью в один из магазинов явились начальник продснаба Берман, парторг Лямов, завхоз Самородкин и другие. Не обращая внимания на сторожа, они взяли из магазина консервы, икру и другие продукты на закуску. Сторожа отправили в универмаг за вином, выдав ей соответствующую записку. Заведующий универмагом, несмотря на 12 часов ночи, «с любезностью отпустил вино». Продснабовское начальство прогуляло всю ночь: сначала у парторга Лямова, потом – у Бермана, «где напились до потери сознания». Подобные гулянки начальство устраивало регулярно, и сторож однажды напрямую возмутилась их поведением. От бунтаря решили избавиться. Дождавшись «проступка», когда Кузьмина в рабочее время отлучилась на час в больницу, ее как прогульщицу спешно уволили. Возмущенная, она направилась к парторгу, которому заявила: почему ее уволили за час отсутствия, тогда как завхоз Самородкин в то же самое время послал одного из рабочих за вином и тот отсутствовал на работе целых 3 часа. Лямов, со слов сторожа, вместо объяснений принялся угрожать: «Держи язык за зубами, а то будет еще хуже, ведь я парторг!» Но сторож ослушалась и подала в суд. Суд встал на ее сторону и постановил: выплатить зарплату за время увольнения, восстановить на работе и выдать паек. Однако ни работы, ни пайка Кузьмина так и не увидела. В письме в местную газету она сообщила, что уже три месяца вместе с ребенком голодает. Обращения к вышестоящему начальству ничего не дало, а в профсоюзе услышала в свой адрес: «Ты – баба болтливая» [27].
Широко распространенные коррупционные практики, помимо прямого экономического ущерба, приводили и к серьезным репутационным потерям власти. Ведь барская, роскошная жизнь всевозможного начальства резко контрастировала с трудным, часто невыносимо тяжелым, материально-бытовым положением рядовых работников.
Как уже говорилось выше, руководство Бокситстроя устраивало пьянки и активно использовало доступ к финансовым и материальным ресурсам в личных целях. Тем временем планы по строительству рудников были провалены, а материально-бытовое положение рабочих, занятых на строительстве, было очень тяжелым. Ввиду острой нехватки жилья, в бараках и общежитиях рабочие жили скученно, в тесноте, страдая от грязи и многочисленных насекомых-паразитов. Постельные принадлежности отсутствовали [28].
Как установили органы партийного контроля, зарплату рабочим выдавали не вовремя, к тому же выплачивали частично (задержки с полным расчетом доходили до трех месяцев), кроме того, при начислении зарплаты рабочих банально обсчитывали. Столовые и магазины, обслуживавшие рабочих, тоже стремились нажиться. «Рабочие систематически обворовываются путем обвешивания, мошеннических наценок и грубых нарушений установленных розничных цен, – сообщал уполномоченный свердловского партконтроля Л.А. Папардэ в Москву, в цековский парт-контроль. – Вместо гирь употребляются камни, кусочки хлеба, сами весы неправильные. Обед, состоящий из «баланды» – двух маленьких рыбок – и скверного пирожка с грибами оценивается в 1 [р.] -93 коп., причем на каждую рыбешку наценка выражается в 12 коп. (себестоимость 18 коп., а отпускается за 30 коп.). В магазинах ОРСа за исключением муки всё остальное продается исключительно по коммерческим ценам. Пшеничный хлеб одной и той же выпечки 26–27 июля продавался: в магазинах села Петропавловского – 60 коп., в магазине горного цеха – 70 коп., а в магазине строительной площадки утром – 1 р. 20 к[оп]., а вечером – 70 коп. за килограмм». Несмотря на такие завышенные цены, качество обедов в столовых оставляло желать лучшего. В столовой горного цеха среди рабочих неоднократно фиксировались пищевые отравления. А в столовой строительной площадки рабочему Шуклину вообще досталась рыба с червями [29].
С подобной же картиной отношения к материально-бытовым условиям рабочих проверяющие столкнулись и на рудниках Богословского рудоуправления. «При осмотре мною общежитий рабочие поднимали рубашки и показывали изъеденное рудой тело, жалуясь, что негде помыться, – писал в Москву Л.А. Папардэ. – Единственная на руднике баня работает [с] большими перебоями из-за недоставки воды. При этом баня закрывается раньше окончания работы смены» [30].
Столовые, бараки, дома ИТР и рабочих зимой плохо отапливались, т. к. рудоуправление не заготовило дров. Из-за отсутствия нормальных бытовых условий работники массово увольнялись. Но эти проблемы мало волновали руководство рудоуправления. Другое дело – жилищные условия самого начальства. Директору рудоуправления Чернышёву приглянулось здание медицинской амбулатории рудника. Чернышёв распорядился перевести амбулаторию в другое, неприспособленное здание. А в освободившемся помещении сделал дорогостоящий ремонт и стал использовать его как личную квартиру. То же самое было проделано с детскими яслями: ясли по распоряжению Чернышёва перевели в неприспособленный барак, а в освободившееся помещение после ремонта въехал инженер Петров – приближенный Чернышёва [31].
Выдача зарплаты рабочим рудников задерживалась на 2–3 месяца (общая задолженность к концу июня 1934 г. составляла почти 940 тыс. р.), в то время как служащие получали зарплату вовремя и в полном объеме, а некоторым «особо нуждающимся» начальникам выплачивались суммы в счет будущих зарплатных начислений. Особенно туго стало, когда в мае и июне 1934 г. выдача зарплаты вовсе прекратилась. Рабочим только после устраиваемых скандалов выплачивали небольшие авансы в 5–10 р., которые, однако, не позволяли им оплатить даже паек. В конторах рудников ежедневно собирались целые толпы рабочих и членов их семей в ожидании хоть каких-то денег. Порой не помогали даже скандалы. Так, 25 июня около полутора десятков рабочих рудника «Ауэрбах» пришли к управляющему рудником П. Чулочникову с требованиями выплатить заработанные ими деньги, однако тот вызвал милицию, чтобы выгнать рабочих из своего кабинета. Несколькими днями ранее Чулочников вытолкал из своего кабинета машиниста Якимова, его помощника Ежова и сцепщика Косарева. У Якимова, имевшего девятнадцатилетний производственный стаж, на иждивении находилось четыре человека, и в июне он вынужден был продавать личные вещи, чтобы выкупить продовольственный паек. По сведениям милиции, подобные явления были так или иначе характерны для всех рудников Богословского рудоуправления [32].
Зато приближенные директора рудоуправления получали деньги сполна. Широкую известность благодаря обнародованию в газете получила история с выплатой 500 р. ученику гаража Симуллину. Симуллин обратился к директору Чернышёву с просьбой выдать ему аванс в сумме 500 р. для покрытия недостачи в столовой, числящейся за его матерью. Дело в том, что его мать член партии Симуллина, работая заведующей столовой на руднике, была уличена в пьянстве, разбазаривании продуктов и растратах. Соответствующие материалы, несмотря на сопротивление руководства рудоуправления, были переданы в народный суд. 500 р. потребовались для того, чтобы погасить недостачу. Чернышёв проявил большое участие к судьбе проворовавшейся завстоловой и, невзирая на возражения бухгалтера, настоял на выдаче требуемой денежной суммы. А после устроил бывшую заведующую столовой своим секретарем [33].
Для расследования причин задержки с выдачей зарплаты в рудоуправление был командирован старший уполномоченный уголовного розыска городского управления милиции А.И. Старков. Чернышёв демонстративно отказался давать какие-либо пояснения и запретил делать это работникам бухгалтерии [34].
Рабочие стремились уволиться из Богословского рудоуправления и устроиться на соседние предприятия, где были созданы лучшие условия труда и быта. В частности, за май и июнь 1934 г. уволился 231 рабочий. Однако в Богословском рудоуправлении они получали справки о том, что уволены как дезорганизаторы производства. Представители руководства рудоуправления ездили на предприятия, куда устраивались их бывшие работники, и требовали не принимать их на работу как «дезорганизаторов» [35].
Вполне естественно, что в результате подобного отношения, на фоне злоупотреблений и демонстративно-развязного поведения начальства в рабочей среде как Бокситстроя, так и Богословского рудоуправления вызревало недовольство, исподволь формировались «нездоровые настроения» [37]. Отдельные проявления таких настроений фиксировались властными структурами. Так, в марте 1931 г. на имя секретаря Надеждинского райкома ВКП(б) пришло анонимное письмо: «Товарищи коммунисты, почему рабочих морите с голоду, ни хлеба, ни денег не даете, это не власть Советов, а новое крепостное право. Вот что, посмотрите, придет лето, тогда даешь вторую Революцию». Рабочий Надеждинского завода Соловьёв однажды высказался следующим образом: «Ведь коммунисты всегда делают так: сначала заманят, как собак, масляным блином, а потом покажут фигу» [38, с. 104–105].
Выявление партконтролем многочисленных злоупотреблений во властных структурах Надеждинска-Кабаковска, обнародование в газетах многих фактов коррупционных преступлений спровоцировало волну обращений в местную газету «Пролетарий», в которых авторы излагали известные им подобные случаи. «Пролетарий», возглавляемый новым редактором, запестрил заголовками: «Начальник продснаба Берман и парторг Лямов обворовывают государство», «Прокуратура и милиция помогают растратчикам», «Почему Колосов не снят с работы?», «Мошенники из золотопродснаба», «Весы врут…», «В Богословской больнице разбазаривают продукты», «Дикие, незаконные наценки», «У рабочих украли 99 кг муки», «Вниманию прокуратуры», «Вытравить гнойник в Богословском рудоуправлении» [39]. Главными героями этих публикаций становились местные работники торгово-снабженческих организаций, хозяйственные руководители, коммунисты-управленцы, которых подозревали в использовании служебного положения в личных целях, в различных злоупотреблениях, в расправе над теми, кто был им неугоден и указывал им на незаконность их действий. Здесь же, в рубрике «По следам сигналов “Пролетария”», публиковались ответы правоохранительных органов, властных инстанций на некоторые публикации. По фактам, изложенным в отдельных статьях, начались проверки [40].
Уровень политической культуры и правосознания, опыт дореволюционной политической борьбы, мировоззрение критически настроенной части населения, включая авторов многочисленных «сигналов», на наш взгляд, не определяли выбор объектов критики [41, с. 104]. Если местные начальники, порой демонстративно, у всех на глазах практиковали застолья, шумные кутежи, обустраивали свой быт за государственный счет, при помощи расставленных на «теплые места» своих людей занимались хищениями и выписывали себе и «нужным людям» необоснованно высокие премии и пособия, изымали из торговой сети дефицитные продукты и промтовары для личного использования, расправлялись с неугодными, а рабочие тем временем еле сводили концы с концами, то вполне естественно, что в своем тяжелом материальном положении, в невыносимых социально-экономических условиях рабочие обвиняли в первую очередь именно их, а не высшее руководство страны во главе со Сталиным. Тем более что материальное положение рабочих даже на соседнем предприятии могло отличаться в лучшую сторону.
Большой резонанс в городе и области вызвала публикация в «Правде» статьи специального корреспондента газеты В. Сагалатова «Как Вагин “управляет делами”», где рассказывалось о незаконных торговых сделках хозупра в Кабаковске, о присвоении им доходов некоторых учреждений, о поборах с хозяйственных организаций. Хотя главным фигурантом статьи стал руководитель хозупра Вагин, тем не менее упоминались и секретари горкома ВКП(б) [42].
Несмотря на широкий резонанс «дела», неоднократное упоминание его в «Правде» наряду с другими подобными «делами» как примера «разложения», «небольшевистского поведения» отдельных руководителей парторганизаций, нарушения норм «коммунистической нравственности»
и «коммунистической этики» [43], виновные не понесли сурового наказания. По «делу Кабаковского хозупра» только начальник хозупра Вагин был лишен партбилета и отдан под суд. Бывший секретарь горкома Жданов был исключен из партии, его заместитель Покровский и председатель ревизионной комиссии горкома Бублевский получили выговоры и были сняты с работы. Остальные чиновники, включая председателя горсовета Козырькова, директора завода Рязанцева и начальника городского отдела НКВД Антонова, отделались партийными взысканиями [44].
Таким образом, использование надеждинским (кабаковским) начальством финансовых и материальных ресурсов в личных целях стало вполне типичным явлением в первой половине 1930-х гг. Важнейшим источником поступления денежных средств и материальных ресурсов во властные структуры являлись хозяйственные организации. Местные органы власти под теми или иными предлогами изымали у предприятий и учреждений крупные денежные средства, фактически обложив их своеобразной административной данью. Кроме того, изымалось продовольствие, предназначенное для снабжения рабочих.
Определить точные масштабы материального ущерба, нанесенного государству коррупционными действиями надеждинской (кабаковской) партноменклатуры, пока трудно. Тем не менее уже можно утверждать, что подобные действия в значительной степени негативно сказывались на проведении в жизнь планов индустриализации. К тому же из-за бедственного материального положения работники были вынуждены увольняться с предприятий, что также не способствовало реализации планов промышленного развития района.
Номенклатурные работники различных уровней, злоупотребляя служебным положением, обустраивали свою жизнь с показной роскошью, зачастую демонстрируя вызывающее поведение. Подобный казенно-аристократический стиль резко контрастировал с весьма скромным материально-бытовым положением простых людей. Всё это способствовало росту недовольства среди населения по отношению к советской власти, к ее представителям на местах.
«Дело Кабаковского хозупра» показывает, что органы партийного контроля время от времени выявляли и фиксировали многочисленные злоупотребления, нарушения законности. Однако, несмотря на это, судебному преследованию подвергались, как правило, не основные получатели материальных благ – первые лица местных партийно-государственных структур и руководители хозяйственных организаций, а лишь низовые фигуранты. Таким образом, по отношению к коррупции в органах власти действовавшие на тот момент правовые механизмы оказались совершенно неэффективными.
Ссылки:
-
1. Бакунин А.В., Бедель А.Э. Уральский промышленный комплекс. Екатеринбург, 1994. 160 с.
-
2. Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 236. Оп. 1. Д. 29. Л. 51.
-
3. Там же. Ф. 4. Оп. 12. Д. 3. Л. 28.
-
4. Там же. Д. 5. Л. 3.
-
5. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-3316. Оп. 30. Д. 20. Л. 13.
-
6. ЦДООСО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 29. Л. 49–50.
-
7. Там же. Л. 42–49.
-
8. Там же. Ф. 4. Оп. 12. Д. 1. Л. 87 об.
-
9. Там же. Ф. 236. Оп. 1. Д. 29. Л. 99, 101–102, 104 ; Д. 35. Л. 170.
-
10. Там же. Д. 29. Л. 56, 100.
-
11. Там же. Л. 29, 36.
-
12. Там же. Л. 63, 78, 82, 104.
-
13. Там же. Л. 57–58.
-
14. Сушков А.В. Империя товарища Кабакова: уральская партноменклатура в 1930-е годы. Екатеринбург, 2019. 292 с.
-
15. Сушков А.В. «Дело Пермской лечкомиссии»: коррупционные практики на Урале в первой половине 1930-х гг. // Общество: философия, история, культура. 2020. № 6. С. 109–115.
-
16. Сушков А.В., Бедель А.Э., Пьянков С.А. Индустрия роскошной жизни: к вопросу о коррупционных взаимоотношениях руководителей уральских партийно-государственных структур и хозяйственных организаций в 1930-е годы // Genesis: исторические исследования. 2019. № 8. С. 69–88.
-
17. ЦДООСО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 29. Л. 55, 66, 101–102, 111–112, 129.
-
18. Там же. Л. 56.
-
19. Там же.
-
20. Там же. Л. 96.
-
21. Там же. Л. 7–8.
-
22. Там же. Л. 42, 95; Д. 30. Л. 159–161, 175–177, 181.
-
23. Там же. Д. 29. Л. 95.
-
24. Там же.
-
25. Там же. Л. 98; Д. 30. Л. 190.
-
26. Там же. Д. 29. Л. 34–36.
-
27. Там же. Д. 30. Л. 195.
-
28. Там же. Д. 29. Л. 42–43, 94.
-
29. Там же. Л. 94.
-
30. Там же. Л. 93.
-
31. Там же. Д. 30. Л. 191, 194.
-
32. Там же. Д. 29. Л. 93; Д. 30. Л. 187–189.
-
33. Там же. Д. 30. Л. 184, 194.
-
34. Там же. Л. 184, 189, 194.
-
35. Там же. Л. 186–187.
-
36. Там же. Л. 184.
-
37. Там же. Д. 29. Л. 42, 93.
-
38. Поршнева О.С., Даренская И.В. Протестные акции и настроения городского населения Урала в период «великого перелома» (1928–1932 гг.) // Уральский исторический вестник. 2017. № 3. С. 101–109.
-
39. ЦДООСО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 30. Л. 194–195.
-
40. Там же. Л. 189, 195.
-
41. Поршнева О.С., Даренская И.В. Указ. соч.
-
42. Сагалатов В. Как Вагин «управляет делами» // Правда. 1934. 16 июля.
-
43. Отличительная черта большевика – бдительность и скромность // Правда. 1934. 14 августа ; Ярославский Е.
-
44. ЦДООСО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 35. Л. 276.
За коммунистическую нравственность // Правда. 1934. 8 сент.
Редактор: Хорева Людмила Николаевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы "Дело кабаковского хозупра": коррупционные практики на Урале в первой половине 1930-х гг
- Бакунин А.В., Бедель А.Э. Уральский промышленный комплекс. Екатеринбург, 1994. 160 с
- Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 236. Оп. 1. Д. 29. Л. 51
- ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 12. Д. 3. Л. 28.
- ЦДООСО. Д. 5. Л. 3.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-3316. Оп. 30. Д. 20. Л. 13