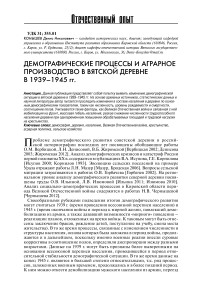Демографические процессы и аграрное производство в вятской деревне в 1939-1945 гг
Автор: Конышев Денис Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Данная публикация представляет собой попытку выявить изменение демографической ситуации в вятской деревне в 1939-1945 гг. На основе архивных источников, статистических данных и научной литературы автор пытается проследить изменения в составе населения в деревне по основным демографическим показателям, таким как численность, уровень рождаемости и смертности, соотношение полов. Учитываются такие факторы, как Великая Отечественная война и связанная с ней мобилизация на фронт, массовая гибель населения, резкое снижение численности трудоспособного населения деревни при одновременном повышении обрабатываемых площадей и трудовой нагрузки на крестьянство.
Демография, деревня, население, великая отечественная война, крестьянство, аграрная политика, сельское хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/170169008
IDR: 170169008 | УДК: 31;
Текст научной статьи Демографические процессы и аграрное производство в вятской деревне в 1939-1945 гг
П роблеме демографического развития советской деревни в российской историографии последних лет посвящены обобщающие работы О.М. Вербицкой, Л.Н. Денисовой, В.Б. Жиромской [Вербицкая 2002; Денисова 2003; Жиромская 2012]. Анализ демографических кризисов и катастроф России первой половины ХХ в. содержится в публикациях В.А. Исупова, Г.Е. Корнилова [Исупов 2000; Корнилов 1993]. Эволюцию сельских поселений на примере Урала отражают работы Л.Н. Мазур [Мазур, Бродская 2006]. Вопросы сельской миграции затрагиваются в работах О.В. Горбачева [Горбачев 2002]. На региональном уровне анализу демографического развития северной деревни посвящены труды О.В. Ильиной, Л.В. Изюмовой [Ильина 2011; Изюмова 2010]. Анализ социально-демографических процессов в Кировской области периода Великой Отечественной войны содержится в работах Н.В. Чернышевой [Чернышева 2012].
Своеобразными рубежами подведения итогов демографического развития могут считаться 1939 г. (время проведения всесоюзной переписи населения) и 1945 г. (время окончания войны и переход к мирной жизни, повлекший демобилизацию из армии, а также дававший возможности «мирного» поведения – реализации планов, отложенных на время войны. К таковым могут быть отнесены заключение браков, рождение детей, поступление на учебу, смена места жительства). В то же время процессы, связанные с изменением численности и структуры населения, основа которых была заложена в период войны, продолжаются и в дальнейшем, поскольку именно военные реалии внесли суровые коррективы в соотношение полов, определили диспропорции между разными возрастами. Данные на 1939 г. могут быть признаны более выверенными на основании всесоюзной переписи населения, проводившейся в период относительной стабильности демографической ситуации. В то же время данные на конец 1945 г. являются в большей степени относительными, т.к. ряд процессов, заложенных военным временем, продолжались и в более поздний период. К ним можно отнести демобилизацию мужского населения из армии, переезд из села в город, переселение в другие регионы в связи с проводимой государством политикой. После окончания войны на уровне военного времени были и другие показатели: число заключаемых браков, соотношение смертности и рождаемости.
К 1939 г., когда проводилась всесоюзная перепись населения, демографическая ситуация в стране и в регионе была в основных чертах стабильной. К этому времени завершается коллективизация и связанные с ней негативные последствия (раскулачивание, высылка, рост смертности из-за голода и сопутствующих ему болезней).
К началу Великой Отечественной войны по составу населения Кировская обл. оставалась преимущественно сельской: все население в 1939 г. составляло 2 334 тыс. чел., из которых в городской местности проживали 348 тыс. чел., на селе – 1 986 тыс.1, или 85%. Преобладание сельского населения над городским было характерно и для РСФСР в целом: на 72,5 млн жителей села приходилось 36,1 млн горожан2. Плотность сельского населения региона составляла 18 чел. на 1 кв. км, основная масса крестьян проживала в маленьких населенных пунктах.
В 1936 г. государство запрещает аборты3, что способствовало некоторому повышению рождаемости, хотя в 1940 г. по области было произведено 3 799 абортов4.
Неблагоприятными факторами для улучшения демографической ситуации к началу 1940-х гг. можно считать советско-финскую войну и связанный с ней уход части мужского населения на фронт и их гибель. Косвенно уменьшению сельского населения способствовало проводившееся укрупнение и переселение колхозов, сселение малодворных деревень. В результате проводившейся перед войной переселенческой политики из села в 1940 г. уехали на постоянное место жительство 7 596 чел. [Чернышева 2012: 32], или около 0,5% общего числа жителей вятской деревни. Также неблагоприятным фактором перед войной можно считать снижение рождаемости с одновременным повышением смертности ситуация в целом по области, при этом в большей степени снизилось число рождений по сельской местности. В 1939 г. на 1 000 чел. населения приходилось 39,1 родившихся и 22,5 умерших5. В 1940 г. по соотношению рождаемости и смертности ситуация несколько ухудшилась: уровень смертности на 1 000 чел. по региону составил в среднем 27,4 чел., при этом он был выше по селу, чем по городу: 28 против 23,76. В целом по РСФСР за предвоенные годы уровень смертности по селу составлял около 50% по отношению к рождаемости7.
Уровень смертности среди мужского населения в сельской местности региона с 1937 по 1940 г. превосходил уровень среди женского: в 1937 г. число умерших среди мужчин составляло 28 489, среди женщин – 25 919, или на 9,9% меньше; в 1938 г. на 26 622 умерших мужчин на селе приходилось 24 426 женщин, или меньше на 8,3%; в 1939 г. – 22 950 и 20672, или меньше на 10%; в 1940 г. – 27 621 и 26 234, или меньше на 5%)8.
Перед войной в целом по региону число родившихся превосходило число умерших: в 1940 г. на 76 818 рождений приходилось 62 177 смертей. В 1941 г. показатели были даже лучше: 78 100 рождений и 59 924 смертей. Однако в дальнейшем ситуация кардинально поменялась: в 1942 г. на 49 344 родившихся приходилось 81 362 умерших1, в 1943 г. – 20 090 родившихся и 61 578 умерших2.
В результате, несмотря на относительное затишье и стабильную демографическую ситуацию перед войной, для региона сложился ряд неблагоприятных факторов, более ярко выразившихся на селе, чем в городе: снижение рождаемости, рост смертности, механическая убыль взрослого трудоспособного населения.
Согласно законодательству, все мужчины с 18 лет (при наличии среднего образования – с 19 лет) подлежали призыву в армию на срок от 2 до 4 лет3. Крестьяне, в большинстве своем не обладавшие высоким уровнем образования и квалификацией, не попадали под различные категории так называемой брони, дававшей возможность освободиться от отправки на фронт. Поэтому советскую армию периода войны можно считать преимущественно сельской; по подсчетам О.М. Вербицкой, крестьяне в этот период составляли в армии до 70% [Вербицкая 2002: 43].
Великая Отечественная война потребовала снабжения фронта техникой, что означало приоритетное развитие промышленности, сконцентрированной преимущественно в крупных городских поселениях. В свою очередь, это повлекло рост населения в городах, условия жизни в которых и до войны были более благоприятными.
Не обладая временем и ресурсами для полного и тщательного планирования работ при снижении людских ресурсов, но понимая необходимость выстоять в условиях войны, государство вынужденно повышало требования к остававшемуся в тылу населению.
Возросшие требования к деревне выражались в повышении плановых заданий по посевным и уборочным площадям, а также объемов сдачи продукции государству. Крестьяне по сравнению с рабочими находились в более сложных условиях: у них отсутствовал нормированный день, не было отпусков, государство не гарантировало им в данный период заработную плату, пенсии и иные социальные выплаты. Неизбежным было и повышение минимума выработанных трудодней: 13 апреля 1942 г. Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) минимум трудодней колхозникам был установлен на уровне 100 в центральных нечерноземных и северных районах, в прочих – 120. Для подростков 12–16 лет устанавливалась половина взрослой нормы – 50 трудодней в год4.
Крестьяне, являвшиеся основными производителями сельскохозяйственной продукции, в годы войны были лишены гарантированного снабжения продуктами по карточкам и государственным ценам. Оплата труда колхозников производилась по остаточному принципу – только после выполнения колхозом всех обязательств по сдаче продукции государству он имел право оплатить крестьянам трудодни. Размер оплаты крестьянского труда каждый раз зависел от уровня состоятельности хозяйства и количества продукции, оставшейся после расчета с государством. В связи с необходимостью обеспечить снабжение фронта происходит повышение планов выработки и сдачи основных видов продукции государству. Закономерным стало и снижение оплаты труда крестьян: если в 1940 г. по региону только около 18% хозяйств выдали на трудодень по 700 г зерна и меньше, то в 1942 г. таких хозяйств стало уже около 63%1. Многие колхозы вообще не имели средств для какой-либо оплаты трудодня.
Потребности войны и обеспечение фронта привели к увеличению объема обрабатываемых площадей. По отдельным видам продукции (картофель, мясо, молоко, шерсть, кожсырье) в 1941–1943 гг. сдавалось больше, чем в 1940 г. – в один из благоприятных периодов довоенных лет по урожайности и выполнению планов. Планирование работ и показателей, устанавливаемое государством, было на уровне предвоенных лет.
Несмотря на вынужденное повышение трудовой нагрузки на трудоспособное население деревни, снижение основных показателей аграрного производства в деревне было неизбежным: в 1943 г. урожай зерновых (по видовой оценке) снизился с 12,2 ц с гектара до 6,8 ц, или на 45%, при этом по ведущей зерновой культуре региона – озимой ржи – снижение произошло на 64%. По занимавшему 2-е место в зерновых культурах овсу снижение составило 27%2. Закономерным стало уменьшение количества сданного государству хлеба: в 1940 г. было сдано 407 739 т хлеба, в 1942 – 361 547, а в 1943 г. – 291 3513.
Демографическая ситуация стала не единственным фактором снижения сельскохозяйственных показателей: у государства не было возможности своевременно пополнять и обновлять технику сельского хозяйства. В то же время стоит учитывать, что основу рабочих кадров машинно-тракторных станций составляли как раз взрослые мужчины, ушедшие на фронт.
Параллельно шло ухудшение материально-технического оснащения деревни: если на 1 января 1940 г. по колхозам региона насчитывалось 205,8 тыс. голов лошадей, то на 1 января 1944 г. – 138, 8 тыс., т.е. сокращение на 33%. Произошло ухудшение агротехники, снижение количества вносимых удобрений, вспашка почвы составила 15–17 см вместо довоенных 18–20.
За годы войны наблюдается резкий рост смертности в регионе от различных заболеваний. Уже в 1941 г. в деревне происходит рост заболеваемости такими инфекционными болезнями, как сыпной и брюшной тиф, туберкулез, трахома, туляремия [Загвоздкин 1991: 245].
За 1,5 года войны общая численность населения региона уменьшилась на 222 тыс. чел. и на 1 января 1943 г. составила 2 112 тыс. (уменьшение на 10%), в т.ч. на селе – 1 637 тыс. (уменьшение на 349 тыс. чел., или на 18%).
На 1 января 1944 г. численность сельского трудоспособного населения составила всего 386 тыс. чел., включая женщин в возрасте от 16 до 50 лет – 305 тыс., или 79%, и подростков в возрасте от 14 до 16 лет – 83 тыс. чел.4, что в совокупности составило снижение примерно на 40% по сравнению с довоенным временем.
В 1939 г. было 776,3 тыс. работающих колхозников, к концу 1945 г. (когда часть крестьян возвртилась с фронта в деревню) по региону насчитывалось 448,2 тысячи трудоспособных работающих колхозников, т.е. произошло уменьшение на 328 100 чел., или на 43%. В первые послевоенные годы в вятской деревне продолжалось сокращение числа трудоспособных колхозников за счет их ухода в промышленность, на транспорт, в армию и другие отрасли, что стало отраже- нием тяжелого положения деревни. Параллельно шло увеличение числа колхозников, не вырабатывающих минимум трудодней1.
На май 1945 г. всего по региону численность населения составляла 1 824 тыс. чел. (78% от уровня 1939 г.), в т.ч. 478 тыс. городского населения (13,7%) и 1 346 тыс. сельского2 (или 67,8% от 1939 г.). Наибольшую убыль сельского населения в сравнении с городским можно считать для данного времени общероссийской тенденцией: согласно ЦСУ СССР, с 1 января 1941 г. по 1 января 1945 г. городское население по РСФСР уменьшилось на 13%, а сельское население – на 23% [Население России… 2001: 277].
По данным Р.Г. Пихои, к маю 1945 г. в советских войсках служили 11,365 млн чел., при этом за годы войны число трудоспособных мужчин в деревне уменьшилось в 2,5 раза при общем сокращении числа колхозников по стране с 18 189,2 тыс. чел. до 11 430,9 тыс. [Пихоя 2009: 13, 63], т.е. их численность сократилась на 37%.
А. Грациози на основе различных статистических источников отмечает, что в целом по стране в 1940 г. на 100,3 млн женщин приходилось 92,3 млн мужчин, а в 1946 г. –74,4 млн мужчин на 96,2 млн женщин [Грациози 2010: 125-126].
По данным Л.Н. Денисовой, на момент окончания войны и в первые послевоенные месяцы численность работоспособного сельского населения (мужчин с 14 до 59 лет и женщин с 14 до 54 лет) составляла не более 74 млн чел. (уровень 1931 г.), при этом доля колхозниц трудоспособного возраста поднялась до 76% [Денисова 2003: 21].
Несмотря на ухудшение демографической ситуации и технического оснащения, в последний год войны уменьшается число колхозников, не выполнивших минимум трудодней: в 1939 г. таковых в среднем было 5%3, а в 1945 г. – только 2,3%4. Причинами этого, кроме административного нажима и повышенных требований в условиях войны, можно считать также и определенный трудовой энтузиазм.
К концу войны в деревне произошло значительное уменьшение числа трудоспособных: если в 1940 г. в колхозах было 284 239 трудоспособных мужчин, то в 1945 г. – 109 537 (или 38,5%); даже в 1946 г., после окончания демобилизации мужчин, в колхозах области было 168 866 мужчин (или около 52% уровня 1941 г.).
Несмотря на уменьшение числа рабочих рук в деревне, объем посевных площадей по региону возрастал: в 1948 г. по сравнению с 1944 г. они увеличились на 195 тыс. га5. По данным Н.Л. Рогалиной, в целом по стране численность занятых в сельском хозяйстве мужчин сократилась на треть [Рогалина 2010: 148].
В итоге, при снижении численности трудоспособного сельского мужского населения почти в 2 раза происходит увеличение посевных площадей: соответственно, неизбежным было увеличение трудовой нагрузки на колхозников и в первые послевоенные годы. В 1940 г. на каждого трудоспособного колхозника в среднем по области приходилось 2,9 га уборочной площади, а в 1943 г. – уже 5 га6.
Кроме того, неизбежная для военного времени гибель взрослого мужского населения предопределила послевоенное соотношение полов, а поскольку условия жизни в первые послевоенные годы были также достаточно тяжелыми, люди не спешили заключать отложенные во время войны браки. Все это обу- словило определенный тип демографического поведения и в совокупности с другими факторами предопределило нехватку взрослого трудоспособного сельского населения, нехватку рабочих рук в деревне.
Таким образом, ухудшение демографической ситуации, приведшее к изменению качества трудовых ресурсов села, стало одним из важных факторов аграрного производства, привело к уменьшению обрабатываемых площадей и снижению количества сельскохозяйственной продукции. Сельское население в военные годы находилось в более тяжелом положении, чем городское, что не замедлило сказаться на миграционных процессах из села в город. В то время как общее снижение численности населения по региону за 1941–1945 гг. составило 22%, численность сельского населения области сократилась на 32,2% при одновременном росте городского на 37%.
Список литературы Демографические процессы и аграрное производство в вятской деревне в 1939-1945 гг
- Вербицкая О.М. 2002. Население российской деревни в 1939-1959 гг.: Проблемы демографического развития. М.: Институт российской истории РАН. 318 с
- Горбачев О.В. 2002. На пути к городу: сельская миграция в Центральной России (1946-1985 гг.) и советская модель урбанизации. М.: Изд-во МПГУ. 158 с
- Грациози А. 2010. Советский Союз в 209 цитатах: 1914-1991. М.: РОССПЭН. 205 с
- Денисова Л.Н. 2003. Женщины русских селений. Трудовые будни. М.: Мир истории. 336 с
- Жиромская В.Б. 2012. Основные тенденции демографического развития России в ХХ веке. М.: Кучково поле. 320 с
- Загвоздкин Г.Г. 1991. Социальная политика ВКП(б) и Советского государства в годы Великой Отечественной войны: дис. … д.и.н. Л. 357 с
- Изюмова Л. В. 2010. Стратификация колхозной деревни в 1930-1960-е гг. (по материалам Европейского Севера России). Вологда: Изд-во ВГПУ. 175 с
- Ильина О.В. 2011. Демографические процессы в деревне Европейского Севера России в 1940-1950-е гг. Вологда: Изд-во ВГПУ. 122 с
- Исупов В.А. 2000. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века: историко-демографические очерки. Новосибирск: Сибирский хронограф. 244 с
- Корнилов Г.Е. 1993. Уральское село и война. Проблемы демографического развития. Екатеринбург: Уралагропресс. 173 с
- Мазур Л.Н., Бродская Л.И. 2006. Эволюция сельских поселений среднего Урала в ХХ веке: опыт динамического анализа. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. 564 с
- Население России в ХХ веке: исторические очерки. 2001. М.: РОССПЭН. Т. 2. 416 с
- Пихоя Р.Г. 2009. Под знаком Сталина. М.: Олимп. 253 с
- Рогалина Н.Л. 2010. Власть и аграрные реформы в Росси ХХ века. М.: Энциклопедия российских деревень. 230 с
- Чернышева Н.В. 2012. Социально-демографические процессы в Кировской области в годы Великой Отечественной войны. Киров: Изд-во ВятГГУ. 203 с