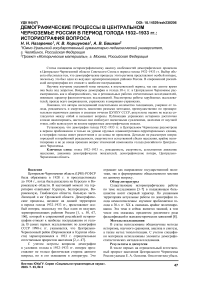Демографические процессы в Центральном Черноземье России в период голода 1932-1933 гг.: историография вопроса
Автор: Назаренко Назар Николаевич, Коршунова Надежда Владимировна, Башкин Анатолий Викторович
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 т.23, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена историографическому анализу особенностей демографических процессов в Центрально-Черноземной области Советского Союза в период голода 1932-1933 гг. Выбор объекта обусловлен тем, что демографические процессы этого региона представляют особый интерес, поскольку это был один из ведущих зернопроизводящих районов России. В современной российской историографии его относят к наиболее пострадавшим. Научное изучение указанной темы началось в постсоветский период, так как долгое время она была под запретом. Вопросы демографии и голода 30-х гг. в Центральном Черноземье рассматривались как в общероссийских, так и региональных работах отечественных исследователей, имеющих характер фактологических исследований. Рассмотрены работы зарубежных исследователей, прежде всего американских, украинских и американо-украинских. Показано, что авторы исследований подсчитывали количество голодающих, умерших от голода, рождаемость и смертность населения разными методами, преимущественно по предварительным оценочным данным и сводным отчетам ЦУНХУ СССР, результаты оценок не всегда согласуются между собой и вызывают вопросы. Публикации украинских историков достаточно сложно анализировать, настолько они изобилуют оценочными суждениями, далекими от научной этики, либо используют не вполне корректные демографические модели. Установлено, что демография голода 1932-1933 гг. в Центральном Черноземье рассмотрена в первом приближении и только на уровне крупных административно-территориальных единиц, а география голода имеет разночтения и до конца не прояснена. Детально не рассмотрен вопрос городской и порайонной рождаемости, смертности и естественной убыли населения, крайне политизирован и не до конца прояснен вопрос этнической компоненты голода российского Центрального Черноземья.
Голод 1932-1933 гг, рождаемость, смертность, естественное движение населения, динамика демографических показателей, демографические потери, центрально-черноземная область
Короткий адрес: https://sciup.org/147240375
IDR: 147240375 | УДК: 94(47) | DOI: 10.14529/ssh230206
Текст научной статьи Демографические процессы в Центральном Черноземье России в период голода 1932-1933 гг.: историография вопроса
Центрально-Черноземная область (ЦЧО) РСФСР была образована в 1928 г. и просуществовала до 1934 г., когда была разделена на Курскую и Воронежскую области. В настоящий момент эта территория охватывает Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Тамбовскую области, большую часть Липецкой и юг Орловской области. Демографические процессы, шедшие на данной территории в период голода 1932–1933 гг., представляют особый интерес, поскольку это был один из ведущих зернопроизводящих районов России [1, с. 50, 67, 106], который в современной российской историографии относят к наиболее пострадавшим от голода. В самых первых исследованиях по демографии СССР 1990-х гг. указывается, что ЦентральноЧерноземный район (Воронежская и Курская области) характеризовался в 1933 г. отрицательным естественным приростом населения [2, с. 47].
С учетом остроты вопросов демографии в условиях голода в 1932–1933 гг. интерес представляет не только фактическая сторона данного вопроса, но и его освещение в литературе. Это отражает как направление государственной политики, так и формирование общественного мнения по данному вопросу.
Обзор литературы
Существующие историографические работы по теме исследования [3–7] в подавляющем большинстве носят спорный характер. По указанным территориям актуальные работы по демографии голода немногочисленны: изучение проблематики голода в 30-х гг. XX в. оказалась крайне политизиро-ванно. Эта тема и сейчас является таковой, в том числе она оказалась предметом различного рода фальсификаций и псевдоисторических заявлений [8].
Методы исследования
В статье использованы общенаучные методы историзма, научного сравнения, анализа и синтеза, а также метод типологизации. С учетом специфики материала использованы элементы демографостатистических методов исследования.
Результаты и дискуссия
В числе первых на отрицательный естественный прирост населения Центрального Черноземья России указала Е. А. Осокина. Она отметила убыль городского населения ЦЧО в 23,1 тыс. человек, сельского – в 39,2 тыс. человек на основании отчетных данных Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) о естественном движении населения СССР за 1933 г. [9, с. 19–20]. По мнению Е. А. Осокиной, регион в РСФСР оказался на четвертом месте в стране по убыли городского населения (убыль составила 1,9 %) [9, с. 20].
В монографии «Население России в ХХ веке» был описан «разразившийся голодомор 1932–1933 г.», охвативший Тамбовщину [10, с. 266], а также указан рост смертности в результате голода в Курской и Воронежской областях и отрицательный естественный прирост в городах этих областей в 1934 г. [10, с. 268]. Историк Н. А. Ивницкий писал, что в ЦЧО голод охватил в основном южные районы: Валуйский, Уразовский, Вейделевский, Волоко-новский, Ровеньский, Россошанский, Никитов-ский, Буденновский, Алексеевский и Богучарский, особо острым он был весной 1933 г. [11, с. 229]. Всего, по его оценкам, от голода и «сопровождающих его болезней» (без пояснения каких) умерло около 200 тыс. человек [11, с. 230].
-
С. А. Нефедов, указал, что основная часть Центрально-Черноземного района оказалась в очаге демографической катастрофы [12, с. 61–62] и привел оценку числа умерших, данную П. В. За-горовским, – 195 тыс. человек [13, с. 50], и свою – на основе данных Р. Дэвиса и С. Уиткрофта и «нормы» как среднего числа умерших в 1930– 1931 гг.: 142 тыс. человек (1,4 % населения) [12, с. 66; 13, с. 47; 14, с. 270].
Общепризнанный специалист по данному вопросу В. В. Кондрашин описывал голодное бедствие и массовую смертность от голода в ЦЧО [6, с. 310; 15, с. 118]. Ссылаясь на сообщения К. С. Дроздова, в качестве эпицентра голода в ЦЧО он указал пшеничные районы с преобладающим украинским населением [16, с. 19]. В другой работе В. В. Кондрашина эпицентром голода названы Борисовский, Уразовский, Валуйский Вейделевский, Никитов-ский, Березовский и Верхне-Михайловский районы как наиболее пострадавшие от хлебозаготовок, но без указания этнической характеристики населения [1, с. 175]. Автор отметил, что голод в регионе, в том числе в городах, начался в марте и продолжался до июля 1933 г. [1, с. 175–176]. Всего для ЦЧО со ссылкой на П. В. Загоровского приводятся следующие цифры: 241 тыс. прямых потерь от голода и около 400 тыс. потерь от «недорода» и стихийной миграции – всего около 600–650 тыс. человек [17, с. 191; 18, с. 325]. Другая оценка потерь приводится в соответствии с данными сельскохозяйственного налога: с 1 января 1933 г. по 1 января 1935 г. численность сельского населения Курской области сократилась на 13 %, а Воронежской – на 11 % [1, с. 285]. Отметим, что начальник сектора населения и здравоохранения ЦУНХУ С. Каплун при подготовке материалов по итогам естественного движения населения СССР в 1933 г. писал, что данные налогового учета не обеспечивают полноты охвата населения, а также отражают результаты миграции, и напрямую не могут быть использованы для демографических оценок [19, л. 285].
Историк В. Б. Жиромская отмечала, что голод охватил значительную часть ЦЧО. Особо пострадало население Курской области [20, с. 95]. В более позднем исследовании автора убыль населения из-за смертности от голода отмечена не только в Курской, но и в Орловской и Воронежской областях (без указания на то, в границах какого года) [21, с. 651]. По ее подсчетам, население Курской области сократилось на 8 ‰, Воронежской – на 4 ‰, а смертность в Курской области составляла 33 ‰ сельского населения и 44 ‰ – городского [20, с. 96]. В дальнейшем рассчитанная В. Б. Жи-ромской смертность немного другая, но приведена в процентах – 30,3 и 42,8 % [21, с. 653]. Указание размерности в процентах (возможно из-за технической ошибки) привело к искусственному завышению смертности в 10 раз1. Также автором отмечен отрицательный естественный прирост населения в 1934 г. городов Воронежской области (-2,4 ‰) [20, с. 97]. Еще одна оценка потерь населения В. Б. Жиромской дается по убыли населения между переписями населения 1926 и 1937 гг. Для сел Курской области убыль составила 17,6 %, а Воронежской – 10,4 % [20, с. 99]. Автор отметила, что эту убыль нельзя объяснить миграцией сельского населения в города в связи с бурным ростом строительства промышленных объектов, поскольку часть промышленных объектов строилась не в городской черте, где и размещались строители и промышленные рабочие [21, с. 652]. Отметим, что размещение не в городской черте не означает, что строители не фиксировались как жители городов (рабочих поселков), а выезд из села всегда фиксировался как миграция из сельской местности. Кроме того, высокие темпы миграции в города были и после голода [12, с. 65; 13, с. 49].
Анализируя миграционные потоки из Центрального Черноземья, исследователь С. А. Нефедов связал их с аграрным перенаселением, отсут- ствием промышленных центров и аграрной спецификой региона [12, с. 66–67]. По его данным, выезд из ЦЧО в 1936 г. более чем в два раза превышает оценки смертности от голода. С этими оценками сопоставима и ежегодная официальная миграция после 1933 г., которая могла быть и выше официальной [12, с. 66; 13, с. 50; 22, с. 14, 21]. Появление в первые пятилетки громадного количества рабочих мест вне сельского хозяйства и за пределами региона породило массовый отток молодежи из сел [23]. Безусловно, трагедия 1932–1933 гг. усилила миграцию, однако необходимо отличать потери от голода и убыль от миграции по социальноэкономическим причинам. Именно социальноэкономические причины, а не голод 1932–1933 гг. обусловили значительный отток сельского населения из ЦЧО в другие регионы СССР, падение рождаемости и убыль населения, которую зафиксировали в переписи населения 1937 г. по сравнению с ранее проведенной в 1926 г.
Зарубежные исследователи Р. Дэвис и С. Уит-крофт в своей работе привели отчетные данные ЦУНХУ СССР, согласно которым в ЦЧО в 1932 г. родилось 391556 (36,7 ‰), а умерло 204328 (19,2 ‰) человек, а в 1933 г. – 299083 (28,3 ‰) и 361389 (34,1 ‰) человек, соответственно [24]. Они указали, что в ЦЧО смертность в сельской местности к июлю 1933 г. в 4 раза превышала «норму» (которая авторами не указывается, но дается ссылка на 3 том работы «Трагедия советской деревни» и монографию П. В. Загоровско-го) [25, с. 417]. Авторы, со ссылкой на справки ОГПУ, отметили факты недоедания, опухания и смертей от голода в отдельных деревнях в 1934 г. [25, с. 418]. Рассчитанная ими «сверхсмертность» в ЦЧО в 1933 г. составила 0,13 млн человек, а всего за период голода 1932–1933 гг. – 0,1 млн человек (в 1932 г. по их расчетам был прирост в 0,03 млн) [25, с. 422]. С. Уиткрофт отметил, что в Центральном Черноземье в период голода наблюдался широкий и относительно высокий пик смертности в городах (70 на тыс.), который был аналогичен смертности сельского населения (75 на тыс.), но длился меньше по времени [26, с. 752].
Наличие в российском Центральном Черноземье украинских национальных районов обусловило интерес к региону со стороны украинских историков. Однако их работы, например, статью Ю. Брязгунова, сложно анализировать, настолько она изобилует оценочными суждениями и формулировками, далекими от научной этики [27]. По сути вопроса Ю. Брязгунов указывает, что пик смертности в Курском и Белгородском регионах пришелся на середину 1933 г., голод был и в 1934 г. Несмотря на оговорку, что от голода пострадали и другие национальности, в частности русские [27, с. 130], Ю. Брязгунов напрямую связывал голод с отменой украинизации в ЦЧО и украинофобией «северо-восточной соседки» и писал о геноциде украинской нации в РСФСР [26, с. 136–139]. Фактически единственным аргументом «геноцида» является то, что наиболее пострадали южные и юго-западные районы (особенно современной Белгородской области), где проживали потомки казаков-переселенцев и этнические украинцы [27, с. 128, 130, 132].
Этот подход нашел поддержку у некоторых российских исследователей. В. В. Бубликов и В. В. Маркова писали, что основной причиной «деукраинизации» Белгородского края послужил голод 1932– 1933 гг., «…получивший в украинской историографии название Голодомор» [28, с. 54]. Виновным в «деукраинизации голодом» они называли советское руководство, которое, снизив план хлебозаготовок в целом в ЦЧО, для половины южных украинских районов его увеличила [28, с. 55]. Данные о плане хлебозаготовок авторами взяты из работы К. С. Дроздова, который писал, что в большинстве «русских» районов севера ЦЧО планы хлебозаготовок были уменьшены, а в 27 из 52 южных «украинских» районов – увеличены [29, с. 33]. Еще в качестве аргумента «голода-геноцида украинцев» в ЦЧО В. В. Бубликов отметил, что в период между переписями населения 1926 и 1939 гг. численность украинцев в регионе сократилась в 4 раза при росте числа русских в 1,4 раза [29, с. 32; 30, с. 39].
На основе расчетов П. В. Загоровского В. В. Бубликов писал, что прямые потери населения Белгородской области от голода были не менее 100 тыс. человек [29, с. 33]. Но, считая эти расчеты заниженными, предложил свою оценку естественной убыли населения ЦЧО с 1 января 1933 г. «по середину 1934 г.» как 1179,8 тыс. человек, где округленно прямые потери от голода составили около 900–1000 тыс. человек и еще 200–300 человек потерь из-за снижения рождаемости и других причин [29, с. 33– 34]. Потери Белгородской области, по его мнению, составили 300–350 тыс. человек прямых потерь от голода, из которых «не менее 2/3 составили этнические украинцы» [29, с. 36].
Еще в 1995 г. на семинаре по демографии населения СССР 20–30-х гг. ХХ в. в университете Торонто (Канада) указывалась некорректность использования в оценках потерь от голода данных об изменении этнического состава между переписями населения 1926, 1937 и 1939 гг., поскольку в переписях использовались разные подходы для национальной самоидентификации и, соответственно, разные формулировки вопроса [31, с. 140]. В. Б. Жиромская отметила, что в городах Воронежской и Курской областей в 1934 г. наблюдалась убыль русского, немецкого и еврейского населения, а число украинцев увеличилось [20, с. 98], что указывает на миграционные потоки этнических украинцев из сел в города.
Этнические вопросы голода рассмотрены и в публикации американо-украинской группы историков и демографов, полагающих национальность возможным ключевым фактором («nationali-ty may be a key factor») голодных 1932–1933 гг. в РСФСР [32, р. 1]. Однако они не выделяли ЦЧО или иные регионы с украинскими национальными районами в качестве отдельного «субрегиона» (как, например, «Krasnodar kraj») для обоснования национального фактора этого явления. Критика методики, используемой этой группой, нами была представлена ранее [33, с. 190–191]. Здесь отметим, что ЦЧО авторы отнесли к третьей группе российских регионов по потерям от голода в 1932– 1934 гг. (38,4 %) [32, р. 6, 7, см. Fig. 2]. Было указано, что смертность от голода в регионах не коррелирует с хлебозаготовками [32, р. 10], но в анализе «фактора национальности» приводится аргумент повышения плана хлебозаготовок в 27 из 52 «украинизированных» районов ЦЧО по сравнению с северными районами [32, р. 15]. Фактически же ситуация с голодом украинцев в ЦЧО в статье лишь упоминается, поскольку она, по данным самих же авторов, не вписывается в теорию «ключевого фактора национальности».
Таким образом, в большинстве рассмотренных работ общероссийского масштаба, где рассматривается Центральное Черноземье, а также работ зарубежных исследователей и тех, кто рассматривает «голодомор» в ЦЧО, часто приводятся оценки, выполненные еще в 1990-е гг. П. В. Заго-ровским и К. С. Дроздовым.
П. В. Загоровский [34] писал, что рост смертности на селе начался в марте 1933 г., а следующие скачки были в мае и июне с пиком в июле и общим ростом на 262 %, с августа смертность быстро снижается. Особенно пострадали югозападные районы ЦЧО, но в западных районах смертность была лишь немногим меньше, голодные смерти фиксировались в восточных и северных районах. Наиболее пострадали районы: Белгородский, Беловский, Больше-Троицкий, Борисовский, Вейделевский, Велико-Михайловский, Весело-Лопанский, Грайворонский, Никитовский, Ракитнянский, Ровеньский, Старо-Оскольский, Уразовский, Чернянский, Шаталовский, Шебекин-ский (современная Белгородская область); Земет-чинский (Тамбовская); Ново-Калитвянский (Воронежская), Становлянский (Липецкая). Указывается, что голод был и зимой 1933–1934 гг., когда наиболее сильно пострадали юго-западные и южные районы ЦЧО. Однако смертность не была такой высокой, как в 1933 г. Также весной 1933 г. голод пришел в города с точно такими же пиками и общим ростом на 158 %. Рост умерших в городах был за счет истощенных переселенцев из сельской местности. Рождаемость в 1933 г. упала на 18,5 % по сравнению с 1932 г., убыль населения в 1933 г. составила 81 тыс. человек, а прямые потери от голода – 195 тыс. человек. К ним прибавляются 45,8 тыс. падения рождаемости, получая 241 тыс.
потерь от голода или 2 % населения ЦЧО. Никакой этнической компоненты или геноцида украинцев голодом П. В. Загоровский не упоминает. Проблема заключается в том, что использованные им данные (табл. 4, схема 4 и 5 монографии [34]) по ЦЧО за 1933 и 1934 гг. – оценочные и использованы ЦУНХУ по конъюнктурным отчетам [35, л. 15; 36].
К. С. Дроздов, упоминая работу Ю. Брязгуно-ва, указал на достаточно низкую объективность и научную ценность украинских исследований, основанных на искусственном противопоставлении Москвы и Киева, а также на однобоком представлении советской украинской национальной политики как обмана и провокации большевиков для ликвидации украинского национального движения [36, с. 8]. Высокая смертность в регионах компактного проживания украинцев, по его мнению, не имела ничего общего с геноцидом. Причина в том, что это был наиболее экономически развитый регион товарного производства зерна ЦЧО, где прошла наиболее активная и массовая коллективизация. Именно поэтому в части районов (27 из 52) были увеличены планы хлебозаготовок [36, с. 26; 37, с. 309]. Никакого геноцида в 1933 г. в ЦЧО К. С. Дроздов не отмечал [37, с. 325–326], а сворачивание политики украинизации связывается с недопущением развала колхозов и срыва хлебозаготовок в зерновых районах РСФСР, граничивших с Украиной [36, с. 29; 37, с. 326–332]. Фактически это ответ и В. В. Бубликову, который, упоминая данные К. С. Дроздова в подтверждение своего мнения «голодомора украинцев», не указывает аргументы из этих же работ, противоречащие его мнению. Оценка числа потерь от голода К. С. Дроздовым принята по расчетам П. В. Загоровского (195 тыс. прямых и 46 тыс. «не родившихся детей»), но в ареал голода он предлагает включить и южные районы ЦЧО [37, с. 326, 338].
Рассматривая этническую составляющую голода в ЦЧО необходимо отметить, что С. Уиткрофт с соавторами, анализируя смертность на районном уровне, писал, что по границе между Харьковской (УССР) и Курской (РСФСР) области нет резкого разрыва в смертности на уровне районов [38, с. 220]. Можно отметить достаточно случайное распределение смертности в приграничных районах на составленной им карте. Кроме того, на ней нет привязки по национальности [38, с. 225].
Из региональных исследований следует отметить работу Е. А. Высотиной, которая писала, что кризис 1933 г. отразился на рождаемости. Она упала с конца 1933 г. и в 1934 г. на 132 тыс. человек, а голод 1933 г. привел к росту смертности до 400 тыс. человек за год, высокая смертность была и в 1934 г. [22, с. 16–17]. При этом в ЦЧО можно было наблюдать отличную от других регионов миграцию населения, когда в 1933 г. произо- шел спад переезда в города региона. Одновременно жители ЦЧО устремились в города других регионов [22, с. 14]. Оценок потерь от голода и указаний на «геноцид голодом» автором не приводил.
Региональные особенности голода отмечались на Тамбовщине. Единичные случаи смерти от истощения были весной 1932 г., число их возросло к июню 1932 г., когда в Тамбовском районе умирало 2 человека в день от истощения [39, с. 186], а пик голода был зимой 1932–1933 гг., к весне голод начал спадать [39, с. 188]. Оценки потерь от голода не даны в силу того, что «…абсолютно точно вычислить количество умерших от голода и его последствий не представляется возможным» [39, с. 189].
Выводы
Таким образом, вопрос естественного движения населения ЦЧО в период голода 1932–1933 гг. в монографических исследованиях и статьях общероссийского масштаба опирается преимущественно на положения, сформулированные в публикациях еще начала 1990-х гг. XX в., и на оценки 1990-х гг., выполненные П. В. Загоровским. Сами расчеты потерь от голода зачастую даны по предварительным оценочным данным и сводным отчетам ЦУНХУ СССР, которые не всегда согласуются между собой и вызывают дополнительные вопросы.
Демография голода 1932–33 гг. в Центральном Черноземье рассмотрена в первом приближении и только на уровне крупных административно-территориальных единиц, а география голода имеет разночтения и до конца не прояснена, несмотря на имеющийся порайонный картографический анализ смертности.
Детально не рассмотрен вопрос городской и порайонной рождаемости и естественной убыли населения ЦЧО.
Наконец, крайне политизирован и не до конца прояснен вопрос этнической компоненты голода российского Центрального Черноземья. Большинство исследователей рассматривает эту проблему в парадигме «голодомора-геноцида» и при этом использует однобокую аргументацию, зачастую игнорируя данные и аргументы, противоречащие их представлениям и взглядам.
Таким образом, необходима оценка демографических процессов (естественного движения населения, определяемого рождаемостью и смертностью, а также миграциями) населения Центрального Черноземья на основе детального анализа широкого круга архивных источников по демографической статистике, а также рассмотрения особенностей рождаемости и смертности в районах компактного проживания этнических украинцев в ЦЧО.
Авторы благодарят уважаемого Марка Тау-гера (Mark B. Tauger, PhD, associate professor, De- partment of History, West Virginia University) за помощь в получении редких научных изданий.
Список литературы Демографические процессы в Центральном Черноземье России в период голода 1932-1933 гг.: историография вопроса
- Кондрашин, В. В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и ее результаты (1929–1933 гг.) / В. В. Кондрашин. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 350 с.
- Андреев, Е. М. Население Советского Союза, 1922–1991 гг. / Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский, Т. Д. Харькова. – М.: Наука, 1993. – 139 с.
- Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 годов в современной российской и зарубежной историо-графии: взгляд из России / В. В. Кондрашин // Со-временная российско-украинская историография голода 1932–1933 гг. в СССР ; науч. ред. В. В. Кондрашин. – М.: РОССПЭН, 2011. – C. 8–57.
- Баранов, Е. Ю. Современная историография демографической истории СССР в 1930-е гг.: тренд дискурса и актуальные проблемы / Е. Ю. Баранов // Уральский исторический вестник. – 2014. – № 3 (44). – С. 70–79.
- Казьмина, М. В. Отечественная историография рубежа XX–XXI вв. о голоде 1932–1933 гг. в СССР / М. В. Казьмина // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – Т. 2, № 3 (59). – С. 122–125.
- Кондрашин, В. В. Современная российская историография голода 1932–1933 годов в СССР: к 85-летию общей трагедии народов Советского Союза / В. В. Кондрашин // Веков не-спешный ход: проблемы социально-экономичес-кой и политической истории России: сборник статей к 70-летию профессора В. Н. Никулина. – Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2018. – С. 307–318.
- Кондрашин, В. В. Региональные и национальные особенности голода в СССР в 1932–1933 гг. / В. В. Кондрашин // Труды Института российской истории РАН. – 2019. – № 15. – С. 196–219.
- Кондрашин, В. В. Методы и исследова-тельские практики политизации и фальсификации темы голода 1932–1933 гг. в СССР, на постсоветском пространстве и в современной западной историографии / В. В. Кондрашин // История совре-менности: информационные ресурсы, методы и исследовательские практики в России и за рубежом: доклады Международной научно-практичес-кой конференции. – М.: Изд-во РГГУ, 2019. – С. 232–241.
- Осокина, Е. А. Жертвы голода 1933 года: сколько их? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР) / Е. А. Осокина // История СССР. – 1991. – № 5. – С. 18–26.
- Население России в XX веке: в 3 т. / отв. ред. Ю. А. Поляков. – Т. 1. – М.: Росспэн, 2000. – 463 с.
- Ивницкий, Н. А. Голод 1932–1933 годов в СССР: Украина, Казахстан, Северный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь, Урал / Н. А. Ивницкий. – М.: Со-брание, 2009. – 288 с.
- Нефедов, С. А. Демографическая динамика СССР в 1930-х годах / С. А. Нефедов // Экономическая политика. – 2012. – № 5. – С. 56–69.
- Нефедов, С. А. Аграрные и демографические итоги сталинской коллективизации / С. А. Нефедов. – Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. – 283 с.
- Нефедов, С. А. Уровень жизни населения и аграрное развитие России в 1900–1940 годах / С. А. Нефедов. – М.: Дело, 2017. – 432 с.
- Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 го-дов – общая трагедия народов СССР / В. В. Кондрашин // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2009. – № 11 (15). – С. 117–120.
- Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 гг. в Российской Федерации (РСФСР) / В. В. Кондра-шин // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. – 2010. – № 1. – С. 6–20.
- Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни / В. В. Кондрашин. – М.: РОССПЭН, 2008. – 519 с.
- Кондрашин, В. В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. – 2-е изд., доп. и перераб. / В. В. Кондрашин. – М.: РОССПЭН, 2018. – 566 с.
- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). – Ф. 1562. – Оп. 329. – Д. 107.
- Жиромская, В. Б. Голод 1932–1933 годов в России и современные международные отношения / В. Б. Жиромская // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. – 2009. – № 14. – С. 92–101.
- Жиромская, В. Б. Голод 1932–1933 гг.: Людские потери / В. Б. Жиромская // Голод в СССР. 1929–1934: в 3 т. – Т. 3: Лето 1933–1934. – М.: МФД, 2013. – С. 651–662.
- Высотина, Е. А. Социально-демогра-фическое развитие Центрального Черноземья в 1920–1930-е гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук / Е. А. Высотина. – Воронеж, 2007. – 24 с.
- Жуков, Д. С. Факторы демографических процессов в российском аграрном обществе второй половины XIX – конца XX в. (на материалах Тамбовского региона) / Д. С. Жуков, В. В. Канищев, С. К. Лямин // Историческая информатика. – 2020. – № 3. – С. 89–102.
- Davies, R. W. The years of hunger: Soviet agriculture, 1931–1933 / R. W. Davies, S. G. Wheat-croft // Registered excess deaths by regions, 1932–1933. – URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/econo mics/staff/mharrison/archive/hunger. (дата обращения: 06.08.2022).
- Дэвис, Р. Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931–1933 / Р. Дэвис, С. Уиткрофт. – М.: Росспэн, 2011. – 543 с.
- Уиткрофт, С. Показатели демографического кризиса в период голода / С. Уиткрофт // Голод в СССР. 1929–1934: в 3 т. – Т. 3: Лето 1933–1934. – М.: МФД, 2013. – С. 719–771.
- Брязгунов, Ю. Голод 1930-х років у Цен-тральному Чорнозем’ї та на Кубані: антиукраїнсь-ке спрямування / Ю. Брязгунов // Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення: ма-теріали міжнародної наукової конференції. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 126–140.
- Бубликов, В. В. Формирование этнического состава населения Белгородской области (часть первая: XIX век – середина XX столетия) / В. В. Бубликов, В. В. Маркова // Научные ведомо-сти Белгородского государственного университе-та. Серия Философия. Социология. Право. – 2014. – № 2 (173). – С. 49–59.
- Бубликов, В. В. Причины и последствия «этнической революции» 1930-х гг. на Белгородчине (ч. II) / В. В. Бубликов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2017. – № 10 (259). – С. 31–40.
- Бубликов, В. В. Причины и последствия «этнической революции» 1930-х гг. на Белгородчине (ч. I) / В. В. Бубликов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2016. – № 24 (245). – С. 38–46.
- Кульчицький, С. В. Ще раз до питання про демографічні наслідки голоду 1932–1933 рр. в Україні / С. В. Кульчицький // Український істо-ричний журнал. – 1995. – № 5. – С. 137–140.
- Levchuk, N. Regional 1932–1933 famine loss-es: a comparative analysis of Ukraine and Russia / N. Levchuk, O. Wolowyna, O. Rudnytskyi, A. Kovba-siuk, N. Kulyk // Nationalities Papers. – 2020. – P. 1–21.
- Назаренко, Н. Н. Региональные особенности рождаемости и смертности населения Нижнего Поволжья в период голода 1932–1933 годов / Н. Н. Назаренко, А. В. Башкин // Самарский научный вестник. – 2021. – Т. 10, № 2. – C. 189–199.
- Загоровский, П. В. Социально-экономичес-кие последствия голода в Центральном Черноземье в первой половине 1930-х годов / П. В. Загоровский. – Воронеж: Воронежский гос-ударственный педагогический университет, 1998. – 132 с. – URL: http://iatp.vspu.ac.ru/itog2001/ kraevedenie/golod.htm (дата обращения 06.08.2022).
- РГАЭ. – Ф. 1562. – Оп. 20. – Д. 41.
- Дроздов, К. С. Государственное регулиро-вание русско-украинских национальных отноше-ний в Центральном Черноземье: 1923–1933 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2010. – 30 с.
- Дроздов, К. С. Голод 1933 года в южных украинизированных районах Центрально-Черноземной области РСФСР / К. С. Дроздов // Совре-менная российско-украинская историография голо-да 1932–1933 гг. в СССР ; науч. ред. В. В. Кондра-шин. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 282–338.
- Wheatcroft, S. G. Mapping crude death rates in Ukraine in 1933 and explaining the raion patterns / S. G. Wheatcroft, A. Garnaut, I. Leikin // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947): матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, 2013. – С. 219–226.
- Жигульский, А. В. Опыт взаимодействия власти и общества в условиях голода 1932–1933 гг. (на примере Тамбовской области) / А. В. Жигуль-ский // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – Т. 23, № 174 – С. 181–190.