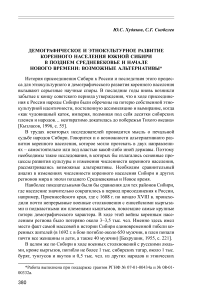Демографическое и этнокультурное развитие коренного населения Южной Сибири в позднем средневековье и начале нового времени: возможные альтернативы
Автор: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521476
IDR: 14521476
Текст статьи Демографическое и этнокультурное развитие коренного населения Южной Сибири в позднем средневековье и начале нового времени: возможные альтернативы
История присоединения Сибири к России и последствия этого процесса для этнокультурного и демографического развития коренного населения вызывают серьезные научные споры. В последние годы вновь возникли забытые к концу советского периода утверждения, что в ходе присоединения к России народы Сибири были обречены на потерю собственной этнокультурной идентичности, постепенную ассимиляцию и вымирание, когда «как чудовищный каток, империя, подминая под себя десятки сибирских племен и народов… неотвратимо докатилась до побережья Тихого океана» [Кызласов, 1996, с. 55].
В трудах некоторых исследователей проводится мысль о печальной судьбе народов Сибири. Говорится и о возможности альтернативного развития коренного населения, которое могло протекать в двух направлениях – самостоятельно или под властью какой-либо иной державы. Поэтому необходимы такие исследования, в которых бы излагались основные процессы развития культуры и изменения численности коренного населения, рассматривались возможные альтернативы. Необходим сравнительный анализ в изменениях численности коренного населения Сибири и других регионов мира в эпохи позднего Средневековья и Новое время.
Наиболее показательными были бы сравнения для тех районов Сибири, где население значительно сократилось в период присоединения к России, например, Приенисейского края, где с 1608 г. по начало XVIII в. происходили почти непрерывные военные столкновения с енисейскими кыргыза-ми и подвластными им племенами кыштымов, повлекшие самые крупные потери демографического характера. В ходе этой войны коренным населением региона было потеряно около 3–3,5 тыс. чел. Именно здесь имел место факт самой массовой в истории Сибири единовременной гибели коренных жителей (в 1692 г. в бою погибло около 650 мужчин, в плен попали почти все женщины и дети, а также 40 мужчин) [Бахрушин, 1955, с. 221].
В целом же по Сибири в ходе военных столкновений с русскими людьми, кроме кыргызов, погибло не более 1 тыс. сибирских татар, около 1 тыс. бурят, тунгусов и якутов и 0,5 тыс. чел. из других народов и этнических групп. Предполагая, что гибли, главным образом, мужчины, число которых в Сибири на начало ХVII в. было не меньшим, чем женщин (около 80 тыс. чел.), можно сказать, что в ходе боевых действий погибло около 7,5 % мужского населения, при чем не менее половины потерь пришлось на долю енисейских кыргызов; для остального населения Сибири совокупное число потерь мужчин колебалось, вероятно, в пределах 3–4 % [Москаленко, Скобелев, 2001].
Каковы могли быть альтернативы этим негативным демографическим последствиям русского завоевания региона? Так в XIII в., в ходе подчинения кыргызов и подвластного им населения власти Монгольской империи, их численность упала как минимум с 400 тыс. чел. в первой половине XI в. до 45–50 тыс. чел. к 1270-м гг. [Кызласов, 1992, с. 119–124] (хотя, вероятно, с определенного времени для Л.Р. Кызласова последствия монгольского завоевания стали не актуальными). После падения империи Юань население региона было вовлечено в войны монгольских феодалов. В результате его численность продолжала снижаться – в XVII в. самих кыргы-зов было «не более 1500… и свыше 10 тыс. кыштымов» [Кызласов, Коп-коев, 1993, с. 140].
Проводя сравнения потерь для населения соседних территорий, например, последовавших в ходе захвата земель джунгар (по границе с Южной Сибирью) войсками империи Цин в середине XVIII в., можно видеть, что в последнем случае коренные жители были почти поголовно истреблены: джунгар в «…один год погибло до миллиона народа и на пространстве лучших их кочевьев от Тэмиртунора (Иссык-Куля) до Тарбагатая не было ни одной кибитки» [Валиханов, 1958, с. 321].
По Черепановской летописи, в Джунгарии «люди и скот весь вырублены без остатку, так что и в плен их не брали, только те спаслись, которые убежали в Российские границы» [Цит. по: Златкин, 1964, с. 455]. В жернова этой войны попали, например и теленгиты, остатки которых спасались затем за русской границей. Если в конце XVII в. численность теленгитского отока Джунгарии составляла 4 тыс. семей (около 20 тыс. чел.), то их число в конце XVIII в. определено, приблизительно, не более чем в 500 чел. [Екеев, 1999, с. 226].
Таким образом, налицо важное отличие: если присоединение Южной Сибири привело к сокращению коренного населения не более чем на 4 %, то завоевание монголами этого региона, как и позднее завоевание Цинами Джунгарии, было намного тяжелее (на примере с теленгитами – более 97 % потерь).
В пределах других колониальных территорий ойкумены Нового времени, этнокультурная и демографическая ситуации также были очень тяжелыми. Так полностью исчезло коренное население Канарских островов, Карибского бассейна, Тасмании. Два века спустя после открытия Колумбом Америки общая численность ее коренного населения сократилось на 90 % [Баумгартен, 2008].
В 1641 г. в Ирландии проживало более 1,5 млн. человек, а в 1652 г., после завоевания войсками Кромвеля, осталось лишь 850 тыс., из которых 150 тыс. были английскими и шотландскими новопоселенцами; в 1845– 1849 гг. здесь разразился голод, погубивший более 1 млн. чел. и усиливший миграцию (выехали 1,5 млн. чел.) – в итоге, в 1841–1851 гг. население Ирландии сократилось на 30 % и стремительно уменьшалось в дальнейшем: с 8 млн. 178 тыс. в 1841 г. до 4 млн. 459 тыс. чел. в 1901 г. [Мортон, 1950, с. 222; Тарасов, 2008].
В Сибири же за четыре столетия под властью Российского государства численность коренного населения увеличилась с 160–200 тыс. чел. [Долгих, 1960] до 1 202 861 чел. в 2002 г. (включая всех ненцев, манси и эвенков, частично проживавших за пределами границ Сибири, но исключая тувинцев, лишь с 1944 г. ставших гражданами СССР, а также эвенов, в основном проживавших за пределами границ Сибири), т. е. минимум на 600 % [Всероссийская…, 2008].
Что же касается этнокультурного развития небольших по численности коренных народов Южной Сибири, имевших своими соседями монголов и маньчжуров, то оно было существенно осложнено. Уже с XIII в. население Саяно-Алтая находилось под властью монголов. Последствия этого были весьма негативными (потеря пашенного земледелия, ряда видов ремесел, письменности и т. д.).
Однако после 1703 г. на данной территории, как и в остальной Сибири, установился мир и понесенные демографические потери были восстановлены уже к началу XIX в. За это же время население региона освоило производящие формы хозяйственной деятельности, такие как пашенное земледелие, стойловое животноводство и проч., а также новые формы жизнеобеспечения, в том числе домостроительство русского типа.
В целом, баланс положительных и отрицательных последствий вхождения данного региона Сибири в состав России определился к середине XIX в., когда произошел существенный рост численности коренного населения, подготовленный всем ходом предшествующего социо-культурного развития. И в дальнейшем здесь фиксировался непрерывный рост численности коренного населения, прерванный лишь годами Великой Отечественной войны.
Таким образом, несмотря на определенные демографические потери утрату отдельных элементов традиционной культуры народами Сибири, ситуация с положением коренного населения в составе Российского государства, была значительно лучше, чем на соседних территориях Центральной Азии, а также на абсолютном большинстве иных колонизируемых территорий планеты.