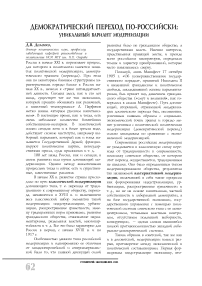Демократический переход по-российски: уникальный вариант модернизации
Автор: Доленко Д.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720393
IDR: 14720393
Текст статьи Демократический переход по-российски: уникальный вариант модернизации
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ПО-РОССИЙСКИ:
УНИКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ
Д.В. Доленко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой региоиоведеиия и политологии ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева Россия в начале XXI в. переживает процесс, для которого в политологии имеются понятия политической модернизации, демократического транзита (перехода). При этом она по некоторым базовым структурным характеристикам гораздо ближе к России начала XX в., нежели к стране пятнадцатилетней давности. Сегодня здесь, как и сто лет назад, существует тот же тип экономики, который принято обозначать как рыночный, а известный тележурналист Л. Парфенов метко назвал «вторым русским капитализмом». В настоящее время, как и тогда, есть очень небольшое количество богатейших собственников-олигархов. В политической жизни сегодня хотя и в более зрелом виде, действуют схожие институты, например выборный парламент, который как и тогда называется Государственной Думой; функционируют политические партии, негосударственная пресса, суды присяжных и т. д.
100 лет назад Россия, как и сегодня, в своем развитии шла путем догоняющей модернизации. Однако между аналогичными процессами тогда и сейчас есть и существенные, качественные различия.
В начале XX в. развитие страны присхо-дило по пути классической модернизации догоняющего типа, т. е. перехода от традиционного к современному обществу, перехода, начавшегося в XVIII в. и включавшего весь классический набор элементов такой модернизации: индустриализацию, урбанизацию, распространение грамотности, замену традиционных норм правовыми, развитие гражданского общества, становление парламентаризма, разделения властей, многопартийности и т. д. Все это было характерно для России в период с начала XVIII в. и по 1917г.
Особенностью данного типа российской модернизации и одновременно ее отличием от западноевропейской и североамериканской было то, что главной движущей силой развития было не гражданское общество, а государственная власть. Именно интересы, представления правящей элиты, и прежде всего российских императоров, определяли темпы и характер преобразований, которые часто навязывались сверху.
Пожалуй, лишь Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», принятый Николаем II и вводивший гражданские и политические свободы, закладывавший основы парламентаризма, был принят под давлением гражданского общества («смут и волнений», как говорилось в самом Манифесте). Путь догоняющей, вторичной, отраженной модернизации досоветского периода был, несомненно, успешным главным образом с социальноэкономической точки зрения и гораздо менее успешным с политической: политическая модернизация (демократический переход) сильно запаздывала по сравнению с экономической модернизацией.
Современная российская модернизация не укладывается в классическую схему перехода от традиционности к современности, поскольку советское общество, от которого этот переход осуществляется, традиционным не являлось. Оно было определенным типом модернизированного общества, результатом так называемой альтернативной модернизации , включавшей в себя такие процессы как форсированная индустриализация, урбанизация, распространение грамотности и т. д., но не на основе капитализма, частной собственности и либеральной демократии, а на базе государственной экономики, государственного управления с помощью политической системы советского типа с ее моноцентризмом, тотальным властным контролем, отсутствием подлинной выборности, конкуренции, — одним словом являвшейся полной противоположностью западной либерально-демократической системы.
Таким образом в советской, так же как и в досоветской, модернизации имелся разрыв, противоречие между экономической и политической составляющими. Первая формировала индустриальную экономику, вто- рая — уникальную, отличную от западной политическую систему.
У советской и досоветской модернизации было и еще одно общее качество: решающая роль государства, а не гражданского общества в проведении преобразований, в частности в осуществлении форсированной индустриализации. Но здесь же было и существенное отличие: в условиях советской модернизации государственное регулирование приобрело всеохватывающий характер. Негосударственной экономики, культуры просто не существовало. Даже модернизация этого общества в 1980-е гг. в виде так называемой перестройки была начата «сверху», самой властью в лице М.С. Горбачева и существенно отличалась от аналогичных процессов в других социалистических странах, где наблюдалось давление гражданского общества (забастовки, организованные «Солидарностью» в Польше, «бархатные революции» в других странах). Российский вариант демократического перехода относят к так называемому навязанному переходу (Ф. Шмиттер), когда одна из групп правящего режима навязывает другим политику реформ. Следует при этом заметить, что современная, постсоветская модернизация начиналась как перестройка, демократизация советской системы, как переход к более демократической модели, которую ее инициатор М.С. Горбачев обозначал формулой «гуманный, демократический социализм».
После перехода властных полномочий в руки Б.Н. Ельцина процесс модернизации претерпел качественные изменения: он по-существу приобрел характер полной смены общественной системы.
Другими словами, современная модернизация —это модернизация неклассического типа —переход от модернизированного (индустриального, урбанизированного и т. д. общества) к другому — западному типу современности, главными отличительными чертами которой являются рыночная экономика (капитализм), базирующаяся на частной собственности, и либерально-демократическая политическая система. Российская модернизация представляет собой в значительной мере уникальный феномен в истории. Даже в наиболее сходных ситуациях полной аналогии с ней обнаружить не удается. Так, например, Япония, осуществлявшая демокра- тический переход после Второй мировой войны, была, конечно, в значительной мере модернизированной, индустриальной страной еще со времен реформ Мейдзи (1860-е гг.). Однако Японии в процессе демократического перехода не нужно было внедрять базовые структуры рыночной экономики, прежде всего частную собственность, — они успешно функционировали, ее модернизация в первую очередь затрагивала политическую систему. Это был по преимуществу политический демократический переход капиталистической страны.
Современный Китай осуществляет сходные с Россией экономические реформы — переход от полностью государственной, социалистической экономики к использованию рыночных механизмов, в том числе и частной собственности. Однако экономическая реформа в Китае не сопровождается политической. Другими словами, китайские реформы — это экономическая модернизация без политической, без демократического перехода.
Через сходные с Россией процессы экономической и политической модернизации прошли постсоциалистические, частности постсоветские государства. Однако если брать страны Центральной Европы, то там социалистический строй существовал на протяжении всего четырех десятилетий. В этих странах сохранились и мелкая частная собственность, и соответствующая современной модернизации рыночная (буржуазная), либеральная культура. К началу перехода были живы многие представители досоциалистической экономической и политической элиты.
Конечно, наиболее близок к российскому опыт постсоветских государств — все они начали переход от одной и той же советской системы по одним и тем же принципам и технологиям. Однако некоторые из них, в частности азиатские республики в советский период еще не стали в полной мере индустриальными, урбанизированными и т. д. Иначе говоря, они были отставшим эшелоном и в досоветской, и в советской модернизации и на момент начала современных реформ во многом сохраняли уклад и структуру традиционного общества, что создавало предпосылки не для демократического перехода, а для установления автократических режимов. Но главное отличие все же в другом. Все постсоветские государства были результатом распада СССР, однако только Россия после этого распада осталась де-юре федерацией национальных республик, многие из которых, как и бывшие союзные республики, стали в начале 1990-х гг. провозглашать свои суверенитеты, и Россия сама оказалась на грани распада. Выход был найден на пути создания уникальной федеративной государственности смешанного типа, основанной на двух принципах: национальном и территориальном.
Наконец, существует еще один аспект российской модернизации, делающий ее неповторимой: речь идет о модернизации страны, составлявшей основу советской государственности, СССР и являющейся его правопреемником. Модернизация России началась в рамках Советского Союза — сверхдержавы, представлявшей одну из двух альтернативных общественных систем (социализм), осуществлявшей глобальный политический проект мировой социалистической революции, претендовавшей на универсальное, глобальное распространение своих ценностей и институтов. Более того, эта держава в отличие от Германии и Японии, начавших демократический переход после поражения в войне, никакого военного поражения не терпела и, хотя и проигрывала своему сопернику с точки зрения эффективности экономики, уровня жизни, была вполне жизнеспособна.
И вот сначала СССР, а после его распада Россия в лице высшего политического руководства отказывается от своего политического проекта, претензий на универсализм своей общественной системы, от своих союзников, сфер влияния и начинает переход к институтам и ценностям бывшего противника — капитализма к либерализму, частной собственности и т. д. Другими словами, страна стремится стать частью западного сообщества — развитых демократических государств. Однако в отличие от стран Центральной Европы, для которых подобный политический выбор предопределил и выбор геополитический — интеграцию в западноевропейские и атлантические организации, для России последний не может быть столь однозначным. Она является евразийской страной, и ее геополитическое положение предполагает необходимость евразийского выбора: активного участия в геополитических и геоэкономических процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.
Сделав выбор в пользу экономических и политических институтов западного типа, Россия остается страной с самобытной, уникальной культурой. Даже притом что основная масса ее населения принадлежит к христианству, это не западное христианство — католицизм и протестантизм, а православие. Кроме того, в России проживают народы, исповедующие ислам, буддизм, иудаизм и другие религии.
Очевидно, что осуществляя политическую модернизацию, демократический переход, Россия должна избежать вестернизации и стремиться к сохранению своей уникальной культуры. В конечном счете уникальность российской модернизации состоит в самом сочетании европейского , западного, выбора в плане трансформации экономических и политических институтов, евразийского выбора в геополитике и самобытного , особого пути в сфере культуры.