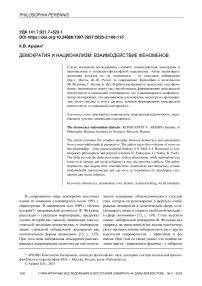Демократия и национализм: взаимодействие феноменов
Автор: Аршин К.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию сложного взаимодействия демократии и национализма в социально-философской перспективе. Автор анализирует эволюцию взглядов на эту взаимосвязь – от классиков либерализма (Дж. С. Милль, Ж.-Ж. Руссо) до современных философов и политологов (Ф. Фукуяма, Г. Нодиа, Б. Як). В работе раскрывается диалектика этих феноменов: национализм может как способствовать формированию гражданской идентичности и социальной солидарности, так и провоцировать конфликты. Автор подчеркивает, что национализм и демократия, несмотря на противоречия, тесно связаны и могут служить основой формирования гражданской идентичности и социальной солидарности.
Демократия, национализм, гражданская идентичность, национальное чувство, социальная солидарность
Короткий адрес: https://sciup.org/170209481
IDR: 170209481 | УДК: 141.7:321.7+323.1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/108-115
Текст научной статьи Демократия и национализм: взаимодействие феноменов
В современном мире демократия выступает одним из символов сложившегося после 1991 г. миропорядка. В знаменитом эссе 1989 г. «Конец истории?» американский политолог Ф. Фукуяма, рассуждая о грядущем миропорядке, предрекал «конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества» и универсализацию «западной либеральной демократии как окончательной формы правления» [15, c. 135]. При этом сама либеральная демократия рассматривалась американским политологом как полити- ческое измерение общечеловеческого государства, которое он резюмировал в формуле «либеральная демократия в политической сфере, сочетающаяся с видео и стерео в свободной продаже – в сфере экономики» [15, c. 139]. Столь высокую оценку либеральной демократии Ф. Фукуяма дал, опираясь на проведенный им анализ идеологического противостояния либерализма и двух других идеологий современности – марксизма и фашизма. При этом он также указал, что помимо великих врагов – марксизма и фашизма – у либерали- зма есть два других идеологических конкурента – религия и национализм, которые могут, в перспективе, представлять опасность для либеральной демократии. Однако противоречия, продуцируемые религией и национализмом, полагал Ф. Фукуяма, могут быть разрешены в рамках самого либерализма. Религиозный фундаментализм, например, малопривлекателен для подавляющего большинства населения западных обществ, члены которых могут удовлетворять свои религиозные импульсы «в сфере частной жизни, допускаемой либеральным обществом» [15, c. 139]. Сложнее дело обстоит с национализмом. Фукуяма признает, что «высокоорганизованные и тщательно разработанные» национализмы, вроде национал-социализма, могут представлять для либеральной демократии серьезную опасность, но даже в этом случае – лишь потому, что в обществах, где может возникнуть национал-социалистическая идеология, «либерализм осуществлен не полностью». Таким образом, этническую и националистическую напряженность Фукуяма объясняет тем, что «народы вынуждены жить в недемократических политических системах, которых сами не выбирали» [15, c. 145]. Последовательная демократизация, уверял читателя американский политолог, реализуемая в духе либеральной демократии, может и должна привести к снятию тех противоречий, которые формируются в рамках взаимодействия социальных групп, принадлежащих к различным этносам. Однако объяснения, как и почему это должно произойти, Ф. Фукуяма не дал ни далее в указанной статье, ни в книге «Конец истории и последний человек» [14], в которой он более подробно изложил тезисы статьи.
Вместе с тем необходимо отметить, что сам тезис о необходимой связи современной демократии в ее либеральной итерации и национализма, справедливый для либералов XVIII–XIX вв., в 1980-х гг. подвергался суровой критике со стороны исследователей нации и национализм. Как отмечает отечественный историк Е.Е. Савицкий, «в 1980-е – начале 1990-х гг. появился целый ряд теоретических и конкретно-исследовательских текстов о национализме (Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. Смита, Э. Хобсбома и др.), в которых история возникновения наций и национализма исследовалась с критической перспективы, указывалось на связь истории наций с “убийствами, казнями, войнами и массовыми бойнями”». Целью этих работ, по мнению Е.Е. Савицкого, «было сделать национализм политически неприемлемой идеологией» [10, c. 256]. И хотя можно поспорить с исследователем относительного того, действительно ли классические работы в области исследования национализма являют собой пример идеологической борьбы против этого феномена, однако подобная точка зрения на указанные работы не является маргинальной. Похожую позицию отстаивали Э.А. Паин и С.Ю. Федюнин в книге «Нация и демократия: перспективы управления культурным многообразием» [7], где критике за излишне упрощенное понимание взаимосвязи современной демократии и национализма подверглись «интеллектуалы, испытавшие сильное влияние марксизма», в частности – Э. Хобсбаум, «которые никогда не скрывали своего резко негативного отношения к национализму» [7, c. 27]. Впрочем, как указывают авторы, критическое отношение западные интеллектуалы демонстрировали по отношению не только к национализму, но и к либерализму, ведь оба социальных феномена были призваны затуманивать классовое сознание. Но если национализм использовался господствующими группами в качестве средства культивации чувства «превосходства своей нации над остальными» в целях формирования групповой лояльности, отличной от лояльности классовой, то либерализм «насаждает индивидуалистическое мировоззрение, эгоизм и идеологию консюмиризма» [7, c. 27], что служит средством разрушения групповой лояльности как таковой.
Либеральные мыслители XX в. относились к национализму с не меньшей враждебностью. Так, Исайя Берлин, один из классиков либерализма XX в., связывал национализм с противным свободе стадным чувством, присущим человеку, акцентируя внимание на иррационализме и антииндивидуализме этого чувства, и указывал, что только общество, избавленное от национализма, может быть подлинно свободным и демократичным [2].
В отличие от либеральных мыслителей XX в. для классиков либеральной мысли XIX в. связь национализма и демократии была вполне очевидна. Моноэт-ничность и национализм, например, рассматривались английским философом Дж.С. Миллем в качестве необходимого условия существования либеральной демократии: «В стране, где в известной мере существует национальное чувство, сама собою является потребность к соединению отдельных членов национальности под одно управление, и притом под управление особое, их собственное. Это равносильно тому, что вопрос о правительстве должен быть решен теми, кем управляют. … Свободные учреждения почти невозможны в государстве, составленном из разных национальностей» [5, c. 222]. Причины этого Дж.С. Милль видел, во-первых, в невозможности формирования единого общественного мнения в условиях многоэтничного общества, а ведь именно оно выступает необходимым условием представительного правления («Если между народностями нет взаимных симпатий, особенно если они читают и пишут на разных языках, то не может существовать и единства общественного мнения, необходимого условия для действительности представительного правления» [5, c. 222–223]). А во-вторых, в отсут- ствии того, что английский мыслитель назвал «необходимым условием гражданской свободы», – сочувствия между армией и народом [5, c. 223]. Когда нет этого чувства, которое формируется исключительно в рамках единого национального чувства, армия превращается в палачей, чья единственная связь – «это … офицеры и правительство, которому они (солдаты. – прим. авт.) служат, и единственная их идея (если только у них есть какая-нибудь) о гражданских обязанностях заключается в повиновении приказаниям» [5, c. 224].
Высоко оценивая необходимость национализма для создания либерального представительного государства, Дж.С. Милль не был апологетом национального чувства. Для него вполне приемлемой была практика ассимиляции более многочисленным и развитым народом менее многочисленного. Притом такая ассимиляция рассматривалась им как позитивная и отвечающая интересам человечества.
Что касается реальной политики, то здесь необходимо отметить, что национализм был дискредитирован практикой национал-социализма. После 1945 г. в Европе за термином «национализм» «непременно маячила тень нацизма» [7, c. 36], что предопределило отношение к нему как к негативному понятию, с которым «ассоциируются такие явления, как державная национальная политики, военщина, агрессия, иррационализм, нетерпимость, ненависть, насилие и деспотизм» [18]. Соответственно, политики тщательно отмежевывались от того, чтобы их каким-то образом ассоциировали с указанным понятием. В этом контексте примечателен случай генерала де Голля, который, отстаивая национальный суверенитет Франции перед лицом США и НАТО, отказывался называть себя националистом. Вместо этого де Голль использовал различные эвфемизмы, например, «хороший патриотизм» в пику «плохому национализму». В данном случае под патриотизмом он понимал преданность Отечеству, а под национализмом – неприятие других наций в духе национал-социализма [21].
В 1990-е гг. развернувшиеся в Европе и Африке межэтнические конфликты еще более про-блематизировали вопрос о соотношении национализма и демократии. «Кровавые этнические чистки прямо посреди Европы делали связь национализма и демократии слишком уж непристойной» [10, c. 256]. Это заставляло исследователей акцентировать внимание на противопоставлении национализма и демократии [19], формируя упрощенную историческую традицию, в которой «национализм противопоставляется демократии и воспринимается как смягченный шовинизм» [18]. Изложенное в перспективе определило тот факт, что в политическом поле современных демократий доминировали «сугубо негативные содержательные оценки национализма как идейного ориентира, дестабилизирующего социальный порядок и нарушающего нормы демократического политического общежития» [11, c. 73]. Однако за всем этим потерялся факт, достаточно точно подмеченный Э.А. Паиным и С.Ю. Федюниным: «Даже порой противостоя друг другу, либерализм, демократия и национализм были (и, вероятно, будут в дальнейшем) тесно друг с другом связаны, притом, что каждый из них a priori не противоречит остальным» [7, c. 37].
На указанное взаимоотношение национализма и демократии обратил внимание грузинский политолог Г. Нодиа в эссе «Национализм и демократия», которое было написано им в самом начале 1990-х гг., практически сразу после распада СССР, когда на пространстве, где после 1945 г. существовали страны народной демократии, к власти пришли национальные движения, инициировавшие процесс построение национал-демократи-ческих режимов. В своем эссе Нодиа провозглашает принципиальное родство национализма и либеральной демократии, указывая, что национализм как идея и как практика принципиально невозможен без идеи и практики демократии. Равно как и последняя никогда не существовала без национализма. Причина подобного родства, по мнению Нодиа, достаточно банальна. С его точки зрения, в основе обоих лежит идеологема, с которой начинается Конституция США и которая красной нитью проходит через Декларацию прав человека и гражданина, а именно идеологема предсуществования «мы, народа», служащего, с одной стороны, источником политической власти в рамках существующего политического режима, а с другой – зримым воплощением демократического принципа народовластия, без которого не может существовать демократия. Все остальные демократические принципы, как то выборность власти, разделение властей, требования к защите конституции и т.д., есть не более чем производные от указанного принципа народовластия.
Нодиа признает иррациональность национализма и кажущуюся несовместимость этой иррациональности с демократией как наиболее рациональной формой правления, которая опирается на рациональные процедуры взаимодействия рациональных участников. Но при этом, с его точки зрения, сами условия развертывания демократии всегда случайны и заранее не предопределены: «законы демократии (правила игры) могут быть продуктом консенсуса рациональных политиков, но состав населения и территория («игроки» и «игровая площадка»), в рамках которых действуют эти законы, определить таким же способом невозможно» [6, c. 6]. Безусловно, существовали попытки рациональным образом определить и членство в списке «игроков», т.е. представить общезначимые критерия отнесения к нации, и границы «площадок», т.е. признаваемые границы, в рамках которых «игроки» реализуют принципы народовластия на демократических началах, но «реальная история национализма, не говоря уже о теоретических изысканиях, показала, что такие объективные и всеобщие критерии в реальной жизни недостижимы. Развитие наций из предшествовавших им этнических сообществ всегда сопровождалось историческими катаклизмами и сознательными усилиями политиков. В мире просто нет национальных границ, данных от Бога, или предопределенных естественным развитием» [6, c. 10].
Однако, несмотря на случайность и иррациональность, национализм послужил тем «плавильным котлом», в котором вызрели демократические модели правления и были созданы демократические политические сообщества. В данном случае говоря о демократических сообществах, Нодиа прежде всего имеет в виду самоопределяющиеся сообщества, т.е. сообщества, которые самостоятельно определяют «правила игры» («игровую площадку» и признаки принадлежности к «игрокам»), по которым будет выстраиваться политическая система.
Здесь необходимо подчеркнуть, что Нодиа не отождествляет демократию и либерализм, как это делали политологи 1990-х гг. Он признает, что «национализм на практике противоречит принципам либерализма, а иногда и демократии». Но, признавая оборотную сторону национализма, он настаивает на том, что «проявления страшной стороны национализма проистекают не из завышенной этнической самооценки, но скорее из отсутствия выхода национальных чувств на политическом уровне» [6, c. 27]. Гордость этнической принадлежностью, языком, гипертрофия националистических мифов о великих предках начинаются тогда, когда «у народа нет реального механизма для выражения гордости своей политической системой или государственным устройством» [6, c. 27].
Как уже было отмечено выше, позиция Нодиа подверглась существенной критике со стороны его коллег по цеху, западных политологов. Остановимся на критике Нодиа со стороны уже упоминавшегося Ф. Фукуямы как одного из творцов представления об универсальном характере либерализма для эпохи, последовавшей после окончания Холодной войны. В целом соглашаясь с позицией Нодиа о фундаментальном родстве демократии и национализма, Фукуяма подвергает жесткой критике представление грузинского политолога о принципиальной иррациональности либерального принципа всеобщего равенства прав: «Он утверждает, что либеральные принципы всеобщего признания определенного набора правил, основанные на некоем принципе всеобщего равенства прав, по сути своей, не более рациональны, чем национальные принципы» [16, c. 29]. Подобная постановка вопроса, утверждает американский политолог, проблематизирует важнейшую дихотомию новоевропейской философии о различии гуманного и негуманного или, если говорить более точно, человеческого и не-человеческого. Это, в свою очередь, бросает вызов всей новоевропейской традиции возвеличивания человека, что в итоге ставит под сомнение универсальность прав человека как принципа, регулирующего отношения как между отдельными индивидами, так и между индивидами и обществом. Ссылаясь на авторитет немецкого философа И. Канта, Ф. Фукуяма, в пику Г. Нодиа, постулирует приоритет прав человека над любыми национальными принципами, поскольку в любом ином случае «права некоторых из людей будут ущемлены за счет полного признания прав других» [16, c. 29], а последнее противоречит принципам либеральной демократии, базирующейся на принципиальном равенстве всех членов сообщества. Однако здесь встает другой вопрос: каковы признаки истинного члена сообщества и на каких основаниях человека принимают в сообщество. Должен ли человек продемонстрировать знание языка сообщества, должен ли его цвет кожи или разрез глаз удовлетворять стандартам принимающего сообщества или должен ли он удовлетворять требованиями некоего имущественного ценза. Не стоит забывать, что в течение практически всего XIX в. подавляющее большинство граждан европейских государств не допускались к голосованию именно из-за несоответствия имущественному цензу [4]. Ответ на эти вопросы Ф. Фукуяма видит в вытеснении самой проблемы нормативных признаков гражданина из сферы политического в сферу культуры и личной жизни. Это, как полагает американский политолог, сделает национализм толерантным: «Национализм может быть толерантным, если национальная культура становится чем-то исходно открытым для других людей с тем, чтобы африканец мог стать французом, если он говорит по-французски, любит сыр “бри” и принимает манеры и код поведения, характерный для традиционной французской культуры» [16, c. 32]. И тем не менее Ф. Фукуяма признает, вслед за Дж.С. Миллем, что сосуществование национальных и либеральных принципов менее проблематично в культурно гомогенных странах, где нет сил, способных бросить вызов этническому (в терминах Ф. Фукуямы «культурному») большинству. И, напротив, в странах культурно негомогенных «всегда встает вопрос о правах этнолингвистических меньшинств» [16, c. 32].
Почему это происходит? Ответ на этот вопрос можно найти у одного из исследователей современной демократии Б. Манена в его книге «Принципы представительного правления». С точки зрения Б. Манена, сам факт существования представительного правления – а именно в этой форме только и может существовать демократия в современных сложных обществах – обусловлен предварительно осуществляющимися процессами наци-естроительства. Только после того, как сформирован субъект представительного правления – нация как совокупность граждан, осознающих себя сувереном (источником власти) и основой существования политической системы, возможно установление представительного правления [3].
Одним из первых мыслителей, обративших внимание на указанную связь демократии и нации, был французский мыслитель Ж.-Ж. Руссо. С его точки зрения, сама возможность установления демократии появляется только в тот момент, когда нация заявляет о себе как о субъекте политики, становясь государственно-организованным сообществом, которое в акте самопровозглашения легитимизирует государственную власть [9]. Справедливости ради необходимо отметить, что Руссо не ставит вопрос о механизмах рождения такого государственно-организованного сообщества. Если не считать таким механизмом договорное соглашение неких перволюдей, цель которого – стремление приобрести «гражданскую свободу», зиждущуюся на праве. По мнению Руссо, рождение этого сообщества является необходимым условием демократии (или, в терминологии Руссо, гражданского состояния) как единственной формы существования подобного государственно-организованного сообщества. И дальнейшее рассуждение женевского мыслителя строится уже на посылке существования подобного сообщества и существования общей воли как некоего эмерджентного состояния индивидуальных воль отдельных людей, входящих в это сообщество. В данном случае использование термина «эмер-джентность», заимствованного из кибернетики, не случайно. Руссо писал: «Часто существует немалое различие между волею всех и общею волею. Эта вторая блюдет только общие интересы; первая – интересы частные и представляет собою лишь сумму изъявлений воли частных лиц. Но отбросьте из этих изъявлений воли взаимно уничтожающиеся крайности; в результате сложения оставшихся расхождений получится общая воля» [9, c. 24]. Общая воля – это не простая сумма воли всех членов сообщества, но воля субстанциального целого, направленная на достижение общего блага.
Учение Руссо об общей воле давало в руки его врагов оружие, позволявшее им причислять его к лагерю противников демократии и либерализма.
Однако политики-практики Нового времени вполне понимали, о чем писал Руссо. Так, один из лидеров итальянского движения Риссорджименто маркиз Массимо д’Адзельо по завершении формирования единого Итальянского государства в 1871 г. заявил: «Мы сотворили Италию, теперь мы должны создать итальянцев» [7, c. 29]. Очевидно, что имел в виду итальянский политик. Только после завершения процесса формирования из представителей различных областей Италии единого государственно-организованного целого и, что главное, осознающего себя таковым государственно-организованного целого, можно было говорить о завершении процесса объединения Италии. Однако возможно это было, в ситуации упадка традиционных форм легитимности (в частности религиозной), только через национализм, успех которого, как указывал американский философ М. Уолцер, был основан на том, что тот базировался «на самом обычном человеческом желании жить в привычном мире со знакомыми тебе людьми» [22]. Это в ситуации XVIII–XIX вв., вероятно, отвечало психологическим потребностям основной массы населения, для которой изменения, происходившие в указанный период, были настоящим «футорошоком» [13]. В этой ситуации упадка традиционной морали и разрыва традиционных форм социальной интеграции национализм стал той силой, которая удовлетворила потребность людей в социальной дружбе и превратила нацию в средоточие моральных отношений между индивидами [17].
На указанном обстоятельстве следует остановиться подробнее, поскольку представляется, что именно оно позволит разъяснить глубинную связь национализма и демократии. Социальная теория в том виде, в каком она формировалась в течение XIX – начала XX вв., была простроена на противопоставлении сообщества и общества (Gemeinschaft/Gesellschaft). При этом первое ассоциировалось с развитыми эмоциональными связями, почитанием предков, непосредственным взаимодействием людей друг с другом, второе – с безличными, опосредованными чем-либо (нормами, контрактами, договорами) отношениями, не подразумевающими какое-либо тепло, эмоциональные связи и т.д. Отношения граждан в рамках современных государств также осмысливались именно в рамках функционирования общества (Gesellschaft), при этом упускалась из виду эмоциональная составляющая, которая заставляет людей переживать чувство межпоколенческой связи, определяющей чувство лояльности как к самому сообществу, так и через него к государству. Именно это невнимание к эмоциональной составляющей современных сообществ, как представляется, обусловило тот шок, который испытали ев- ропейские левые в преддверии Первой мировой войны, когда обнаружили, что трудовые массы населения полагают, что имеют куда больше общего со своей национальной буржуазией, нежели со своими иностранными соратниками по классу, и готовы ради этого общего с оружием в руках участвовать в убийстве этих самых братьев по классу. Как указывает современный исследователь национализма Б. Як, причина готовности к подобному поведению заключается в том особом чувстве, которое рождает принадлежность к нации у современного человека: «Это ощущение межпоколенческой связи и дает нации то, что удачно описано Стивеном Гросби как “глубина во времени”; это ощущение совместной принадлежности одному моменту на простирающейся из прошлого в будущее прямой, вероятно, является наиболее отличительной чертой национального сообщества. В нациях мы помещаем себя в одну совместную последовательность предшественников и преемников, наше утверждение которых, апеллируя к памяти о прошлых поколениях и к ответственности за поколения будущие, углубляет наши чувства взаимного попечения и лояльности. Другими словами, наше совместное наследие, наша совместная связь с прямой времени, далеко превосходящей продолжительность нашей собственной жизни, придают нашим чувствам взаимной социальной дружбы особую остроту. Это словно бы мы вообразили, что не просто проживаем отрезок отпущенных нам лет, но сообща следуем одним путем во времени, движемся по некоей конкретной магистрали на некоторой воображаемой карте времени» [17, c. 134].
В данном случае Б. Як обращается к понятию социальной дружбы и именно через него трактует феномен нации, которая понимается им как субъективная социальная связь, существующая между поколениями и обусловленная осознанием наличия общего культурного наследия: «Нации продолжают жить, даже если их представители больше не используют язык, законы или ритуалы своих предшественников» [17, c. 75]. Последнее, а именно аутентичность языка, закона, ритуала, соответствие их современным стандартам оказывается в данной ситуации и не важным. Важным становится осознание связи (понимаемой как прямая линия преемственности) между тем, что было в прошлом, и тем, что есть сейчас. Иными словами, наследие, разделяемое с другими членами сообщества, – это не единство отношения к этому наследию. Как отмечает, комментируя идеи Б. Яка, А.А. Тесля, национальное сообщество «тем, например, отличается от сообщества, разделяющего общие политические принципы и ценности, что не предполагает единства в трактовке этого прошлого и понимания того, к чему и в какой степени оно обязывает нас в настоящем» [12, c. 103]. В данном случае нация демонстрирует способность к гибкости и, в рамках этой гибкости, способность к приспособлению к различным трактовкам исторических событий, социальных явлений и т.д. Это может служить и служит идеей, объединяющей социальные группы, которые, если их взять отдельно, совершенно противоположны друг другу по своим материальным интересам и идеологическим предпочтениям. Именно принадлежность к нации побуждает членов одного национального сообщества, невзирая на различия, рассматривать друг друга как друзей, совершая друг в отношении друга действия, которые они не обязаны делать, совершать то, что обусловливается наличием социальной симпатии, основу которой и составляет принадлежность к нации. Конечно, отмечает Б. Як, в рамках социальной дружбы ни один ее участник не может быть уверен, что его интересы будут поставлены выше личных интересов, но «он справедливо рассчитывает, что к нему и его интересам друзья будут относиться иначе, с бо́льшим вниманием, чем к интересам, скажем, незнакомого человека» [12, c. 104]. Таким образом, «националисты – это люди, которые пойдут на очень многое, даже на значительное самопожертвование, чтобы сделать, что они могут, для членов своих национальных сообществ, а не тот, гораздо более ограниченный, круг людей, которые готовы ради своей нации пожертвовать всем» [17, c. 215].
В отношении же политической сферы, как указывает Б. Як, нация примиряет «две формы причастности: причастность к политической организации и причастность к группе или сообществу, но подчиняет первое второму. В национальном государстве мы являемся участниками организации, которой управляет единая иерархически организованная структура политической власти, которая, как мы ожидаем, действует как голос и слуга нашей национальной группы» [17, c. 111]. И в случае, если это чувство оказывается попранным, рождается представление о принципиальной несправедливости существующего строя. Последнее, по мнению Б. Яка, предопределяет связь национализма и либерализма (подробнее см.: [1]).
Таким образом, можно утверждать, что переход к демократии возможен только в том случае, если национальное чувство уже сформировано и принимается сообществом «как нечто само собой разумеющееся». Но одновременно, национальное единство, базирующееся на развитом национальном чувстве, есть следствие демократии, поскольку именно в рамках демократических процедур осуществляется процесс вызревания граждан- ской культуры, через повседневное участие граждан в гражданской жизни.
В заключении необходимо отметить, что феномены демократии и национализма находятся в сложной и многогранной взаимосвязи, которая исторически и социально обусловлена глубинными потребностями человека в принадлежности и идентичности. История показывает, что связи между национализмом и демократией требуют длительного времени формирования, а существующие конфликты и противоречия свидетельствуют о необходимости осознанного строительства гражданского сообщества. Устойчивое развитие демократии возможно лишь при наличии сформированного национального самосознания, способного объединять граждан, уважения их культурного многообразия и создания прочных основ для политической и социальной стабильности. Данный диалектический процесс может быть растянут во времени и длиться не одну сотню лет. Так, американский исследователь Д. Растоу указывал, что демократические преобразования были начаты в Англии в XVII в., но так и не были завершены и в XX в. [20]. Но и национальное сознание формируется столь же долго, находясь в состоянии постоянного становления. В заключении процитирую французского историка и философа Э. Ренана, который в своей знаменитой лекции «Что такое нация?» указал на необходимую связь чувства принадлежности к нации и демократии, указав, что нация – «это моральное сознание», «великая солидарность, устанавливаемая чувством жертв, которые уже сделаны и которые расположены сделать в будущем». Нация «предполагает прошедшее, но в настоящем она резюмируется вполне осязаемым фактом: это ясно выраженное желание продолжать общую жизнь», но желание свободное, поскольку «человек – не раб ни расы, ни языка, ни религии, ни течения рек, ни направления горных цепей» [8, с. 101].