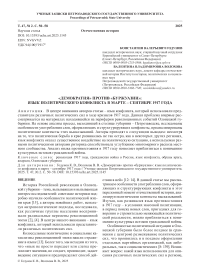«Демократия» против «Буржуазии»: язык политического конфликта в марте - сентябре 1917 года
Автор: Годунов К.В., Волохова В.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания авторов статьи - язык конфликта, который использовали представители различных политических сил в ходе кризисов 1917 года. Данная проблема впервые рассматривается на материалах находившейся на периферии революционных событий Олонецкой губернии. На основе анализа прессы, выходившей в столице губернии - Петрозаводске, исследованы особенности употребления слов, оформляющих и структурирующих конфликты, проанализированы политические контексты этих высказываний. Авторы приходят к следующим выводам: несмотря на то, что политическая борьба в крае развивалась не так остро, как в некоторых других регионах, язык конфликта оказал существенное воздействие на политическую ситуацию, а используемая разными политическими авторами риторика способствовала углублению многомерного раскола местного сообщества. Анализ языка противостояния в 1917 году позволяет приблизиться к пониманию культурных истоков гражданской войны.
Революция 1917 года, гражданская война в России, язык конфликта, образы врага, анархия, олонецкая губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/147247845
IDR: 147247845 | УДК: 94(100)"1917" | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1145
Текст научной статьи «Демократия» против «Буржуазии»: язык политического конфликта в марте - сентябре 1917 года
История Российской революции в Олонецкой губернии – тема, вызывавшая и вызывающая интерес исследователей: советские историки подробно изучили особенности политической жизни края [15], а авторы новейших работ, используя антропологические подходы, исследовали, как различные группы населения воспринимали радикальные перемены революционной эпохи [2], [4]. В центре нашего внимания – язык конфликта, который использовали представители различных политических сил.
Колоссальные политические и социальные катаклизмы революционной эпохи нашли отражение в языке [13]. Более того, мы исходим из того, что «язык не просто передает или слегка преломляет значения, но создает, производит, задает видение ситуации и предопределяет способ дей
ствия в ней» [12: 14]. В данной статье мы рассматриваем особенности употребления слов, оформляющих и структурирующих конфликты в этот переломный момент отечественной истории, анализируя политические контексты высказываний. Изучая, как развивался язык противостояния в 1917 году – в условиях массовой политизации, в период поиска новых слов, пригодных для говорения о стремительно меняющейся политической реальности, можно приблизиться к пониманию культурных истоков гражданской войны.
Особенностью политической ситуации в Олонецкой губернии было более позднее (в сравнении с центром) размежевание политических сил, что проявилось и в позднем оформлении отдельных партийных организаций, как либеральных, так и социалистических [8: 139]. Возникает вопрос: какой язык использовался для описания различных политических сил в регионе, не знавшем такого накала политической борьбы, какой наблюдался в столице?
«УЖАСНЫЙ ПУТЬ ВАНДЕИ…»:
ЯЗЫК КОНФЛИКТА ВЕСНОЙ 1917 ГОДА
После Февральского восстания в Олонецкой губернии сложилось несколько властных центров: администрация губернского комиссара Временного правительства, комитеты общественной безопасности, представлявшие собой «достаточно аморфное представительство различных обществ, союзов, кооперативов, политических партий и т. п.», и советы рабочих и солдатских депутатов [7: 348]. Развитие революции в крае определяла система сложных союзов между различными политическими группами.
Ранней весной, в период, когда преобладали эйфоричные, восторженные настроения, представители различных политических сил транслировали идею, что с падением монархии гражданский мир и демократические свободы вполне прочно обеспечены [14: 109–115]. При этом, как отмечают современные исследователи, в Олонецком крае «чувство радости соседствовало у людей с тревогой за будущее» [5: 205]. В газетных материалах марта превалировал мотив созидания новой России, раздавались призывы к межпартийному и социальному единству сторонников победившей революции. Однако подобное единство должно было быть достигнуто в том числе и в ходе размежевания с внутренним врагом. «Только полное единение всех революционных масс даст им силу сопротивления против затаившейся реакции»1, – писали составители редакторской заметки, напечатанной в отражавшей позицию партии кадетов газете «Олонецкое утро». Это единение должно было быть достигнуто в ходе организованной борьбы с врагом:
«Общий враг всех революционных сил – старый режим, и против этого общего врага мы должны направить все наши объединенные силы, памятуя, что междоусобная распря сыграет лишь в руку и старому режиму, и внешнему грозному врагу»2.
Распад единства мог привести к «междоусобной распре» – одной из главных опасностей для нового государства. Корреспондент «Олонецкого утра» описал позицию лодейнопольского кооператора Тихомирова, изложенную им 16 марта на митинге в Общественном собрании. Автор статьи счел нужным вступиться за подвергнутого Тихомировым критике «вождя демократической буржуазии» П. Н. Милюкова. Он писал:
«Безусловно, наступит время, когда социал-демократический пролетариат и демократическая буржуазия разойдутся, но – выражаясь словами создателя русской со- циал-демократии Г. В. Плеханова – мы должны сказать, – “этот момент еще не наступил”»3.
Как видим, «буржуазия» и «пролетариат» описывались как тактические союзники, конфликт которых в будущем неизбежен, но в настоящий момент несвоевременен. Показательно, что автор заметки сочувственно цитировал Г. В. Плеханова, рассуждавшего о том, к чему может привести раскол сторонников революции: «Гражданская война, вспыхни она в лагере победителей, позволит лишь реакции поднять голову и, может быть, даст ей возможность восторжествовать еще раз»4. Эта цитата – одно из первых известных нам упоминаний понятия «гражданская война» в петрозаводской прессе 1917 года. Симптоматично, что использовавший его автор статьи транслировал риторику, развиваемую авторитетным для умеренных социалистов лидером группы «Единство».
В «Известиях комитета общественной безопасности», представлявших либеральные силы, 24 марта отмечалось:
«Из хаоса розни, вражды, недоверия вырастает что-то одно великое и стройное, сплоченное одним желанием работать вместе, работать до конца <…> Жизнь быстро налаживается, водворяется спокойствие, порядок»5.
При этом корреспондент писал, что
«каждый день промедления нашу губернию, быть может, толкает все сильнее на ужасный путь Вандеи, которая сыграла такую грозную роль в революции Франции. Горе вандейцам!..»6.
Автор тиражировал страх: если земельные реформы замедлятся, Олонецкую губернию может ждать судьба провинции, восставшей против революции. Для обоснования этого политического прогноза использовался распространенный в марте образ: люди разных взглядов, знакомые с историей Французской революции, не могли не проводить параллели с революцией в России и не размышлять об опасностях крестьянского восстания.
Если призывы к единению превалировали в публикациях и политических выступления марта 1917 года, то к апрелю образ внутреннего врага стал вырисовываться более отчетливо (важно отметить, что в апреле – мае оформились организации политических партий в столице губернии и уездах). При этом главная опасность представителям и либерального, и социалистического лагерей виделась в восстановлении прежних порядков. Так, автор статьи, вышедшей 1 апреля, сомневался в искренности тех, кто раньше был приверженцем старого порядка:
«Таких довольно много и от них могут исходить реакционные начинания, их надо бояться допускать к новому строительству, их надо представлять в настоящем виде, снимать надетые ими маски… Дворянство, духовенство, купечество, высшие чины администрации – вот где более всего “граждан в масках”»7.
В это время среди социалистов язык класса получал все большее распространение. В частности, 18 апреля, в ходе первомайской демонстрации, звучали в том числе и речи «о борьбе пролетариата с буржуазией»8. Таким образом, ресурс праздника использовался для разжигания антибуржуазных настроений.
Если одни авторы искали внутренних врагов революции, то другие, напротив, указывали на надуманность этой проблемы и опасность излишнего увлечения подобными поисками. «У русской свободы нет больше “врага внутреннего”. Но силен “внешний враг” русской свобо-ды»9, – писал корреспондент кадетской газеты «Олонецкое утро». В другой статье, опубликованной в тот же день в этой же газете, утверждалось, что опасность представляет внешний враг, а внутренний враг не так опасен. Автор ее отмечал, что сторонники победившей революции вносят «на деле лишь рознь, занимаясь откапыванием среди себя, существующих более в нашем воображении, внутренних врагов, не сочувствующих новому порядку»10.
Представитель либеральных кругов М. Кря-мичев заявлял, что угроза революции со стороны бывших царских чиновников не более чем миф, так как они все нейтрализованы новой властью. Истинная опасность исходила извне, от провокаторов, подосланных немцами. И хотя враждебная сила прямо не называлась, но приписываемые лозунги «Долой войну!», призыв не повиноваться Временному правительству давали понять, что речь идет о большевиках11. Как видим, либералы писали о том, что подрыв внутреннего единства в ситуации внешней опасности представляет серьезную угрозу.
Уже в этот период для характеристики опасности, стоящей перед страной, либералы использовали слово «анархия», под которой подразумевалось отсутствие порядка, законности12. Опасность анархии становилась главным аргументом в пользу сплочения вокруг Временного правительства (о политическом использовании понятия «анархия» см. [6]).
Таким образом, в газетных материалах ранней весны призывы к общественному согласию соседствовали с использованием образов врагов, ожиданием возможных конфликтов. Ситуация обострилась после Апрельского кризиса.
Экстренный выпуск «Известий комитета общественной безопасности», вышедший 22 апреля, был посвящен беспорядкам в Петрограде. Они описывались как стихийные волнения, которые пытался остановить Петроградский Совет. Председатель Лодейнопольского отдела Партии народной свободы Л. И. Либов писал:
«Грозные события, разыгравшиеся в Петрограде 20 и 21-го апреля, показали всем, даже крайним оптимистам, что наша молодая свобода не только еще не поставлена на рельсы, чтобы плавно катиться по пути укрепления ее и устроения Родины на демократических началах, но что она ежеминутно подвергается величайшей опасности потонуть в море анархии, столь усердно насаждаемой у нас путешественником, проехавшим через Германию. Наша глухая и еще не организовавшаяся провинция, с восторгом принявшая новый строй, с полным сознанием долга сплотившаяся вокруг Временного Правительства, в эти грозные дни почувствовала свою большую ответственность за все счастье Родины, за ее будущее. Все граждане должны идти с открытыми глазами, должны ясно сознавать, что перед нами промелькнули первые тени гражданской войны, эти первые ласточки Ленинской пропаганды. Долг каждого сознательно мыслящего гражданина понять теперь, что только партийная организация должна ответить на все выступления анархии, грозящей гибелью и нашей свободе, и демократической России»13.
Показательно, что в этот период времени понятие «гражданская война» использовалось политиками разных взглядов для характеристики Апрельского кризиса, оно получило достаточно широкое распространение в столичной прессе [3]. В петрозаводских же газетах статья Л. И. Ли-бова стала одним из немногих текстов, в которых употреблялось это понятие. Опасность гражданской войны Либов персонифицировал, связывая ее с деятельностью В. И. Ленина. Выдвинутый лидером большевиков лозунг о неизбежности перерастания империалистической войны в войну гражданскую давал повод для антибольшевистской пропаганды, получившей новый импульс после оглашения Апрельских тезисов.
Таким образом, как и в столице [1: 119–142], в Петрозаводске революционная эйфория соединялась со страхом перед внутренними врагами, язык противостояния получил некоторое развитие уже на раннем этапе развития революции.
«ХАМ» И «БУРЖУЙ»:
РИТОРИКА ВРАЖДЫ ЛЕТОМ 1917 ГОДА
Язык противостояния получил распространение и в дни Июньского кризиса. Петроградская печать, по данным «Известий комитета общественной безопасности», «резко осуждает попытку большевиков вызвать гражданскую войну, характеризуя ее как удар в спину революции, преступную провокацию, предательство и из- мену»14. Стремясь передать остроту противостояния, петрозаводская газета транслировала образ внутренней войны.
В статье за 16 июня давалась характеристика виновникам кризиса:
«Анархисты-коммунисты перестали быть “страшными”, так как стали смешными», тогда как «“Ленинцы” и “троцкисты” делают свое разрушительное дело с выдержкой, с планомерной опытностью демагогов».
Они «продолжают сеять всенародную смуту, являются вдохновителями дезертирства, будируют губительное “братание”, избивают на улицах агитаторов “буржуазных партий”, давят свободу слова, подрывают доверие к правительству, подготавливают контрреволюцию». «В ленинизме – грозная опасность <…>. И борьба с ней должна вестись единодушно всеми элементами общества»15.
Важную характеристику специфической языковой ситуации, сложившейся к лету, дал автор статьи, вышедшей в «Известиях Петрозаводского комитета общественной безопасности» 6 июля. Он писал:
«Умеренная печать призывает гром на головы демократии. Она вопит, да и не так уж скрыто – чуть ли не о расстрелах. <…>
Слово товарищ взято в презрительные кавычки.
Крутобедрые дамы в высоких ботинках и мутноглазые молодые люди с проборами готовы организовать Варфоломеевскую ночь для демократии, которую называют сокращенно и с убеждением:
– Хамы.
Что же слышится из другого лагеря?
Да то же самое. До убийственности то же самое <…> Одинаковая примитивно-тупая психология.
– Не смей ходить по Невскому семечки лузгать. Хам.
– Не смей по Невскому ходить да о победе разговаривать. Буржуй»16.
Смысл данной статьи можно интерпретировать так: важной чертой политической культуры, объединявшей представителей противоборствующих сил, была склонность к конфликтам и расколам. Эти расколы оформлялись с помощью слов-ярлыков, маркировавших принадлежность к враждебным сообществам – «буржуям», с одной стороны, и «демократам» / «хамам» / «товарищам», с другой. И те, и другие использовали для описания врага распространенный язык класса: важнейшие субъекты политического процесса обозначались как «демократия» и «буржуазия». Демократия в данном случае понималась как синоним «демократических слоев населения» – «так называли не весь “народ”, а лишь “демократические слои”, “трудящиеся классы”, “низы”» [11: 165], а также организации, защищавшие интересы этих демократических слоев.
Противопоставление «демократии» и «буржуазии» использовалось и в ходе дискуссии о реорганизации власти в крае после Июльского кризиса. На заседании Олонецкого губернского Совета, состоявшемся 4 июля, В. М. Куджиев17 призвал «принять решительные меры» и заявил:
«Во время революции имеют право на жизнь лишь революционные меры воздействия и потому в данный исторический момент демократия должна взять власть в свои руки»18.
При этом член исполкома Петроградского Совета эсер И. В. Балашов говорил о том, что курс социалистов на «коалиционное сотрудничество с буржуазией» был верен из-за слабости «личного состава сил демократии»19. Эсер говорил о том, что «нам буржуи нужны». По итогу обсуждения с небольшим перевесом (16 голосов против 15) была принята резолюция, в которой признавалось, что
«путь, избранный министрами-социалистами, по-прежнему совпадает с программой большинства демократии, а потому должен быть продолжаем. В связи с ростом организации демократии должна реорганизоваться и власть»20.
Как видим, противопоставление «буржуазии» и «демократии» использовалось в том числе и в ходе дискуссий между социалистами внутри губернского Совета, но идея единения ради спасения революции в очередной раз взяла верх.
Для представителей либеральных сил (в мае 1917 года в губернии оформилась организация кадетов) единство и сплочение вокруг Временного правительства являлось главным залогом сохранения порядка. В «Известиях Петрозаводского комитета общественной безопасности» была перепечатана статья из «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов», в которой говорилось, что революции грозит гибель «от распада революционного единства, от внутренней смуты, от ужасов гражданской войны»21. После этого, «тогда, когда и смута, и гражданская война, и разгром на фронте прочно подготовят почву для реакции, придет настоящая контрреволюция и победно завладеет Россией»22. Вновь понятие «гражданская война» заимствовалось из столичной прессы, в то время как представители губернской либеральной элиты акцентировали внимание на том, что Олонецкая губерния пока остается территорией относительного спокойствия. Н. Чуков, ректор Олонецкой духовной семинарии и редактор «Олонецких епархиальных ведомостей» (издание поддерживало кадетов), в июне отмечал, что «у нас нет тех аграрных и иных беспорядков, о которых приходится читать сообщения с юга и средины России: для этого здесь нет и соответствующих условий»23.
Июльский кризис усилил противостояние различных политических сил в губернии. Представители кадетов и социалистов оказались едины в том, что над революцией нависла новая опасность, но источник этой опасности видели по-разному.
«В Петрограде – настоящая война с участием пулеметов и артиллерийский орудий»24 – так описывал кризис автор статьи, опубликованной в либеральных «Известиях Петрозаводского комитета общественной безопасности» 15 июля. При этом причина кризиса виделась в расколе демократических сил: «Революционная демократия все более обособляется, замыкается в узкий круг своих интересов, противополагая себя другим классам и социальным группам»25. Угрозу контрреволюции либералы не считали серьезной: единичные вспышки контрреволюции, по их мнению, «умрут от собственного бес-силия»26.
По-другому описывал положение «демократии» автор статьи, вышедшей 16 июля в «Известиях Олонецкого губернского совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов»:
«Идет форменное наступление черносотенцев против демократии. Газеты <…> начали травлю демократии и социалистов. Начав с вождя большевиков Ленина и выдавая за доказанное то, что еще не только не доказано, но даже компетентными органами еще в качестве обвинения не формулировано, черносотенцы принялись уже травить социалистов-революционеров министра Чернова и министра Скобелева»27.
В данном случае раскол описывался как наступление «черносотенцев» на «демократию», элементами которой признавались не только умеренные социалисты – эсеры и меньшевики, но и большевики.
«Черносотенцам в борьбе с демократией, с крестьянством и рабочим классом усиленно помогают помещики и фабриканты в лице либеральных партий, а особенно партии кадетов, партии так называемой “народной сво-боды”»28. Кадеты «делают все возможное, чтобы подорвать влияние революционного правительства, чтобы усилить смуту и раздор в демократии, чтобы ослабить силу революции»29.
Это было не первое обвинение в контрреволюционности кадетов со стороны петрозаводских социалистов30, однако важна принципиальная разница в понимании единения революционных сил, призывы к которому звучали с обеих сторон. Если социалисты описывали опасности контрреволюции, угрожающей демократии, то либералы полагали, что этот страх не имеет под собой оснований, а единство коалиции подрывается советами и комитетами.
«ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОРНИЛОВЦЫ»
Ситуация еще более обострилась в дни «дела Корнилова». 28 августа в городе стало известно о выступлении генерала Л. Г. Корнилова. Губернский Совет выразил доверие Временному правительству. Члены Главного дорожного комитета и районного Петрозаводского комитета, являвшихся представительными органами железнодорожников Мурманской магистрали, приняли резолюцию, в которой выражали поддержку Временному правительству и призывали: «В этот грозный час не должно быть никаких частных выступлений и партийных раздоров, должны быть забыты всякие личные интересы, дабы все объединились для спасения Родины и Свободы»31. При этом риторика, которую использовали представители различных политических сил для описания кризиса, не способствовала такому объединению. В сложившейся ситуации кадеты не обозначили публично свою позицию по отношению к корниловскому мятежу. Единственная статья о выступлении Корнилова, характеризовавшая его как контрреволюционера, появится в «Вестнике Олонецкого губернского земства» лишь в ноябре 1917 года32. Социалисты же, напротив, обозначили невозможность какого-либо соглашения с Корниловым, представляющим угрозу для демократии. При этом в очередной раз опасность для революции виделась в буржуазии, ставленником которой провозглашался Корнилов. 29 августа на заседании Олонецкого губсовета, на котором присутствовали представители войсковых организаций, была принята резолюция:
«Олонецкий совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и воинские организации Петрозаводского гарнизона не считают возможным никакие соглашения с предателем генералом Корниловым и заявляют, что организационная демократия скорее погибнет, чем допустит торжество измены и произвола. Долой Корнилова и его сторонников! Да здравствует революция!»33
Автор статьи, описывая митинг, состоявшийся в Петрозаводске 29 августа, характеризовал силу, враждебную революции, следующим образом:
«Генерал Корнилов, которого буржуазия считала национальным героем и спасителем отечества, предал и изменил родине. Ведь еще только вчера буржуазия кричала, что большевики предают Россию, разлагают армию, ослабляют фронт, и вдруг предателем оказался их национальный герой и спаситель отечества генерал Корнилов, который, сняв с фронта в такое тяжелое время шесть полков туземной дивизии, не поколебался ослабить и разложить армию гражданской войной…»34
«Дело Корнилова» представляло собой новую фазу употребления понятия «гражданская вой- на» [10]. Петрозаводск, как видим, не был в этом отношении исключением. И хотя использование данного понятия петрозаводской прессой было относительно редко (в сравнении с центральной периодикой), оно отражало позицию некоторых петрозаводских социалистов: сохранение коалиции с «буржуазией», со сторонниками военной диктатуры, готовыми развязать гражданскую войну, невозможно.
Одним из последствий августовских событий стало появление важных слов, маркировавших разрыв с врагами революции, – «корниловщина» и «корниловцы» [9]. Распространились эти слова и в петрозаводской прессе. Автор статьи, вышедшей 10 сентября, писал о том, что «Корниловщина почти ликвидирована». Последствие этого явления он охарактеризовал так:
«Корнилов был не одинок: за ним стояли имущие классы, стояла буржуазия, стояли политические партии буржуазии во главе с кадетами. Корнилов был знаменем, которое выкинули враги революции, начиная с черносотенцев и кончая либералами <…> Непримиримые враги – демократия и буржуазия – порвали ту ниточку бессознательного самообмана, которая их связывала. О совместной работе не может быть и речи, ибо в лучшем случае это было бы лицемерием, в худшем – преступлением против революции»35.
Как видим, слова «корниловцы», «корниловщина» употреблялись для обозначения сил, олицетворяющих контрреволюцию и гражданскую войну, компромисс с которыми невозможен. Антибуржуазная риторика использовалась для характеристики конкретных политических кампаний. Так, газета «Мурманский путь» – издание Союза служащих и рабочих Мурманской железной дороги – писала о выборах в Городскую думу в начале сентября: «…главная борьба при выборах под флагом партий ведется между классами – демократическими организациями и буржуазным классом, сгруппировавшимся вокруг партии Народной Свободы»36. Подводя итоги выборов, газета отмечала, что «последние события Корниловского выступления сильно уронили кадетский престиж и кадеты можно сказать получили maximum голосов, на которые могли рас-считывать»37.
11 сентября к разрыву с кадетами призвали представители Олонецкого губернского Комитета соединенных общественных организаций, которые считали «невозможным создание власти на основе соглашения с партией к.-д., так и с теми кругами, которые хотя бы идейно поддерживали выступление Корнилова»38. Среди местных социалистов укреплялось представление о том, что сохранение коалиции «демократии» (олицетворяемой социалистами) и «буржуазии» (чьи ин- тересы отстаивали конституционные демократы) породит новые кризисы. Рассуждая о значении «преступной корниловщины», автор статьи с показательным заголовком «Вся власть демократии!» писал:
«Шестимесячное сотрудничество части демократии с буржуазией доказало, что польза от этого была лишь одним имущим классам, что все время буржуазные элементы в правительстве стремились подорвать престиж власти, все время они старались загрязнить революцию, умалить значение завоеваний революционного народа <…> Корниловщина раскрыла глаза тем, которые сознательно держали их закрытыми»39.
«Петрозаводские корниловцы» – члены кадетской партии – подвергались резкой критике: конституционные демократы описывались как «партия буржуазная, партия помещиков, имущих классов, партия, ведущая войну с народом, с его законными требованиями»40.
Таким образом, компромисс с кадетами, которые характеризовались как вдохновители заговора против революции, казался невозможным. Социалисты видели спасение страны в решительном подавлении «корниловцев», для борьбы с которыми необходимо было усилить борьбу с «буржуазией» и ее политическими представителями – конституционными демократами. Столь последовательная и непримиримая критика кадетов со стороны членов губсовета объяснялась не только общей политической ситуацией в стране, но и тем, что в губернии именно кадеты оказались единственными серьезными противниками социалистов в борьбе за власть, активно включились в борьбу за места в Учредительном собрании. С усилением влияния губсовета и социалистических партий, представленных в нем, конфронтация с кадетами нарастала. При этом в развивающемся конфликте обе стороны обвиняли друг друга в провоцировании смуты и анархии, и в обществе росло ощущение неизбежности братоубийственных столкновений. Подобные настроения отразились в стихотворении, напечатанном 10 сентября в «Известиях Олонецкого губсовета»:
«Нет, далеко еще светлое счастье, Наш лучезарно сверкающий день, Близятся бури глухого ненастья В небе змеится зловещая тень.
Грозно сдвигаются темные тучи, Вот, вот раздастся мятежный набат, Дрогнут от выстрелов горные кручи, Брата ударит страдающий брат»41.
В финале стихотворения звучал призыв: «Руку, скорее дай руку, товарищ, После мы счеты с тобою сведем,
Ринемся в гущу кровавых пожарищ, Вместе за красное знамя падем!
После ж великой, отчаянной битвы, Вместе войдем в заповедный чертог, Там в торжестве невечерней молитвы, Нас осенит всепрощающий Бог»42.
Социалисты, по мнению автора стихотворения, должны были объединиться в войне с внутренними врагами. Без кровавой борьбы невозможно наступление сакрального будущего. Читатели должны были быть готовы принять участие в решающих сражениях с врагами революции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После падения монархии политическая борьба в Олонецкой губернии разворачивалась не так остро, как в других регионах страны. Это нашло отражение и в политическом языке: показательно, что понятие «гражданская война», активно используемое различными политическими силами в моменты политических кризисов в столице, не получило широкого распространения в Петрозаводске. В губернии, где политическая борьба сконцентрировалась в Петрозаводске – небольшом городе с населением, не превышавшим 20 тысяч человек, политические акторы стремились сохранить порядок, противодействовать анархии, хаосу и насилию, о которых они читали в столичной прессе.
Представители различных политических сил не были готовы к гражданской войне, стремились избежать ее. Язык конфликта тем не менее оказывал существенное воздействие на политическую ситуацию в Петрозаводске, а используемая риторика скорее способствовала углублению многомерного раскола местного сообщества. Не всегда проговариваемый публично страх перед гражданской войной не стал препятствием для ее эскалации, и риторическое оформление конфликта между «демократией» и «буржуазией» явилось одним из факторов, эту войну приближающих.