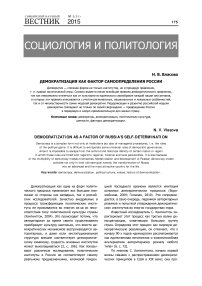Демократизация как фактор самоопределения России
Автор: Власова Наталья Владимировна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 3 (21), 2015 года.
Бесплатный доступ
Демократия - сложная форма не только институтов, но и процедур правления, т. е. правил политической игры. Сложно вывести некие всеобщие правила демократического правления, так как невозможно отвлечься как от культурно-исторического своеобразия каждой нации или региона, в которые эти правила вписываются с учетом региональных, национальных и локальных особенностей, так и от множественности самих моделей демократии. Модернизация и развитие российской модели демократии совпадают не только по своей сверхзадаче - превращению России в передовую и самую привлекательную для жизни страну.
Демократия, демократизация, политическая культура, ценности, факторы демократизации
Короткий адрес: https://sciup.org/14114126
IDR: 14114126
Текст научной статьи Демократизация как фактор самоопределения России
Демократизация как одна из форм политического процесса привлекает все большее внимание со стороны как западных, так и российских исследователей. Зачастую внедряемые в процессе трансформации политические институты не приживаются во многом из-за их несоответствия типу политической культуры страны (Хантингтон, 2004). Это происходит потому, что авторитаризм за время своего существования преобразует культуру настолько, что вместо демократических механизмов воспроизводятся авторитарные, и даже если институциональная структура внешне соответствует демократическому минимуму, сущность основных институтов может выхолащиваться [2, с. 106]. Как показывают различные исследования, политические институты в России не соответствуют своему реальному предназначению, ключевой тенден- цией последнего времени является имитация основных демократических процессов (Воро-жейкина, 2009; Гельман, 2010). Это сопровождается, в свою очередь, падением авторитарных режимов и попыткой утверждения демократических институтов во многих государствах мира.
Известный исследователь С. Хантингтон характеризует этот процесс как третью волну демократизации, охватившую большую группу стран. Определяя этот процесс как мировую демократическую революцию, он отмечает, что к началу 90-х годов «демократия рассматривается как единственная легитимная и жизнеспособная альтернатива авторитарному режиму любого типа» [6 , с. 72].
По мнению С. Хантингтона, начало первой волны связано с распространением демократических принципов в США в XIX веке; она про- должалась до окончания Первой мировой войны (1828—1926). За подъемом демократизации, как правило, следует ее откат. Первый спад датируется 1922—1942 гг. Вторая волна демократизации наступила с победой над национал-социализмом и становлением демократии прежде всего в Западной Германии, Италии, Японии. Эта волна продолжалась до середины 60-х гг. (1943—1962). Второй спад захватил временной интервал между 1958 и 1975 гг. 1974 год стал началом третьей (современной) демократической волны с момента падения салазаровской диктатуры. Она захватила такие государства Южной Европы, как Испания и Греция, затем распространилась на Латинскую Америку. К середине 80-х гг. демократизация распространяется на ряд стран Азии, Центральной и Восточной Европы, а затем и СССР.
Опыт политического развития стран, переживающих третью волну демократизации, явился в некотором роде опровержением оптимистических выводов С. Хантингтона, показав всю неоднозначность и противоречивость этого процесса. Речь прежде всего идет о том, что во многих странах демократизация привела к установлению отнюдь не демократических режимов (ярким примером этому может служить большинство стран бывшего СССР).
Многие ученые признают волновой характер демократизации и согласны с предлагаемой С. Хантингтоном периодизацией. Однако при этом они отмечают, что третья волна характеризовалась рядом особенностей, которые явились подтверждением сложности и многозначности рассматриваемого процесса. Среди них выделяются следующие:
-
1. Специфика итогов: «демократические транзиты» третьей волны в большинстве случаев не заканчиваются созданием консолидированных демократий;
-
2. Значительное отличие исходных характеристик трансформирующихся политических режимов: от классического авторитаризма и военных хунт в Латинской Америке до посттоталитарного режима в странах Восточной Европы;
-
3. Более благоприятный международный контекст.
Демократия — сложная форма не только институтов, но и процедур правления, т. е. правил политической игры. Сложно вывести некие всеобщие правила демократического правления, так как невозможно отвлечься как от культурно-исторического своеобразия каждой нации или региона, в которые эти правила вписывают- ся с учетом региональных, национальных и локальных особенностей, так и от множественности самих моделей демократии. Так, представления о демократии даже в одной стране будут достаточно сильно различаться у представителей различных общественных движений. Западные политики (в меньшей степени это относится к политологам) в первые годы трансформации, происходящей в странах Восточной Европы и особенно в России, предложили следовать лишь одной из форм демократии — либеральной. Во всяком случае, именно эту модель взяли на вооружение наши отечественные реформаторы.
Проблематика перехода от авторитаризма к демократии (а было, как минимум, три такие волны) поставила вопрос о соотношении ценностей демократии (ценностей либеральных и партиципаторных), национальных институтов и политических культур. Исследования ценностной динамики проводились как в обществах стабильной демократии, так и в переходных обществах (X. Линц, Р. Инглхарт, Х. Д. Клинге-манн [1]). Указанные подходы свидетельствуют о том, что для понимания особенностей форм правления недостаточно учитывать только жесткие институциональные факторы, — необходимо рассматривать также поведенческие и социокультурные компоненты политических систем. Таким образом, среди факторов можно выделить собственно политические институты, политические элиты, рядовых граждан.
Практика демократизации в России выявила ряд факторов, как препятствующих, так и способствующих укоренению демократических ценностей. Среди первых следует отметить, например, насаждение этих ценностей в нашей стране извне (со стороны Запада) и сверху (со стороны элит). При этом российские политические элиты так и не сумели консолидироваться. Старая система рекрутирования элит разрушена, а новая складывается медленно и стихийно. Гражданское общество в России, как и в странах бывшего СССР, находится на низкой ступени организации. Этим Россия отличается от ряда восточно-европейских стран.
Культура современной России сочетает в себе как традиционные, так и модернистские и постмодернистские ценности, отражающие наследие разнообразных векторов развития, и поэтому общество примерно одинаково может воспринимать и традиционный авторитаризм, и современную демократию. В целом в условиях нерешенности старых и возникновения новых социально-экономических проблем российское население слабо рефлексирует по поводу политики и занято в основном решением вопросов своего повседневного существования [2, с. 107].
К факторам, способствующим демократическим преобразованиям, следует отнести достаточно высокий к моменту начала преобразований в России экономический и образовательный уровень населения (особенно по сравнению со странами Латинской Америки или Азии), наличие в начале процесса преобразований готовности населения к этим реформам и его активная их политическая поддержка (которая быстро была растрачена российскими политическими элитами). Представляется, что последний фактор может рассматриваться как наиболее важный: в конечном счете «демократизм преобразований» определяется именно тем, как они проводятся: с участием граждан или без.
Среди политологов нет единства в определении этого термина. Чаще всего в самом общем смысле демократизацию рассматривают как переход от недемократических форм правления к демократическим. Важно отметить, что расширительное использование этого понятия в целях характеристики различных видов общественных трансформаций, связанных с демократической волной, далеко не всегда оправданно: процесс демократизации не всегда приводит к утверждению современной демократии. Некоторые исследователи предлагают использовать другое понятие — «демократический транзит», которое не предполагает обязательный переход к демократии, а указывает на тот факт, что демократизация представляет собой процесс с неопределенными результатами. Поэтому эти исследователи выделяют собственно демократизацию как процесс появления демократических институтов и консолидацию демократии как возможный итог демократизации, предполагающий переход к современной демократии на основе укоренения демократических институтов, практики ценностей.
В современной политической науке существуют различные подходы к изучению и объяснению содержания и факторов демократизации. А. Ю. Мельвиль предлагает рассматривать теорию демократизации в рамках двух подходов: первого — структурного, опирающегося на анализ структурных факторов, и второго — процедурного, ориентированного на факторы процедурные (прежде всего выбор и последователь- ность конкретных решений и действий тех политических акторов, от которых зависит процесс демократизации) [5, c. 26].
Представителями структурного подхода являются С. Липсет, Г. Алмонди, С. Верба, Р. Ингл-харт, Л. Пайидр. Они пытаются выявить зависимость между некоторыми социально-экономическими и культурными факторами и вероятностью установления и сохранения демократических режимов в различных странах. Эта зависимость понимается именно как структурная предпосылка демократизации, то есть обусловленная влиянием тех или иных объективных общественных структур, а не субъективными намерениями и действиями участников политического процесса. В качестве основных выделяются три типа структурных предпосылок демократии: обретение национального единства и соответствующей идентичности; достижение достаточно высокого уровня экономического развития; массовое распространение таких культурных норм и ценностей, которые предполагают признание демократических принципов, доверие к основным политическим институтам, межличностное доверие, чувство гражданственности и т. д.
Из перечисленных выше условий демократии у современных исследователей не вызывает сомнений только одно — национальное единство и идентичность, предшествующие демократизации. В отношении других высказываются критические замечания. Так, например, строгая зависимость между уровнем социально-экономического развития общества и демократией сегодня опровергается обширным фактическим материалом. В настоящее время существуют государства с высоким уровнем экономического развития и имеющие при этом недемократический режим (например, Сингапур). Можно выделить также государства с вполне сформировавшимся демократическим типом отношений между политическими институтами и акторами, где при этом отмечается высокий уровень бедности и существование традиционных социальных структур и практик (например, Индия).
Характеризуя наличие необходимых культурных ценностей как условие для возникновения демократии, важно подчеркнуть, что они скорее создают благоприятный климат для формирования стабильной, устойчивой демократии. Но, как справедливо отмечает А. Ю. Мельвиль, предварительные условия и наличие корреляций — не одно и то же [5, c. 32]. Предварительные структурные условия — это такие, без наличия которых демократический переход невозможен. Корреляции же представляют собой не обязательные предпосылки, а факторы, ускоряющие или замедляющие демократизацию.
Эти несогласия по отношению к универсальности и обоснованности модели с конкретными социокультурными предпосылками демократии повлияли на возникновение процедурного подхода (представители — Г. О'Доннелли, Ф. Шмиттер, Дж. Ди Палма, X. Линц, Т. Карл), представители которого опираются на рассмотрение эндогенных факторов демократии и демократизации. По мнению его сторонников, действия тех авторов, которые инициируют демократию, выбор ими определенной стратегии и тактики важнее для исхода этого процесса, нежели существующие ко времени его начала предпосылки демократии. Этот подход объясняет процесс демократизации через взаимодействие конкурирующих элит, которые выбирают в процессе политического торга организационные формы и институты нового политического устройства.
Таким образом, если структурный подход ориентируется на наличие «объективных» социальных, экономических, культурных и других факторов, влияющих на благополучный или неблагополучный исход демократических преобразований, то процедурный в качестве необходимого основания демократизации и демократии выделяет действия политических акторов, осуществляющих этот процесс преобразований.
Примером применения такого подхода может служить выделение факторов, наличие которых необходимо для консолидации демократии, предпринятое X. Линцем и А. Степаном. Они выделяют следующий ряд факторов, являющихся результатом определенных преобразований: формирование гражданского общества путем обеспечения взаимодействия государства с независимыми общественными группами и объединениями; развитие демократических процедур и институтов; развитие правового государства; становление эффективного государственного аппарата, бюрократии, которые может использовать новая демократическая власть в своих целях; развитие экономического общества путем создания системы социальных институтов и норм, выступающих посредниками между государством и рынком.
По мнению третьей группы исследователей, между структурным и процедурным подходами непреодолимого противоречия не существует. Наоборот, они скорее взаимодополняют друг друга, поскольку анализируют различные аспекты одного и того же явления. Как считает А. Ю. Мельвиль, возможно синтезирование этих двух методологий [5, c. 44]. Однако концептуальное объединение двух методологических подходов многими политологами воспринимается неоднозначно и в целом является нерешенной для науки проблемой.
Российская модель демократии: элементы развития
ВЦИОМ проводил социологическое исследование специфики демократизации в нашей стране. Приводим некоторые данные (2008 г.).
Социологические исследования, анализирующие характер «общественного запроса» на демократию, свидетельствуют, что такой запрос существует, но носит преимущественно пассивный характер.
«Нужно поставить вопрос о пропорциях и приоритетах в программе политической либерализации. Пока приоритеты видятся следующим образом. На первом месте — все то, что связано с движением к правовому государству. На втором месте — новая гласность. Если у нас либерализация и сверху, то это будет именно гласность. На третьем месте — стимулирование плюралистической политической среды и только на четвертом месте в списке — стимулирование межпартийной конкуренции» ( Из дискуссии. А. Ю. Зудин, доцент ГУ-ВШЭ ).
Можно утверждать, что значительная часть российского общества поддержит линию на инициированную сверху и управляемую государством либерализацию общественно-политической жизни. Такая либерализация должна соответствовать общественным установкам, т. е.:
-
— являться следствием или дополнением к высокоценимым завоеваниям последних лет — стабильности и порядку, социально-экономическому благополучию;
-
— инициироваться и осуществляться государством, получать однозначную публичную поддержку со стороны первых руководителей страны. В этом случае даже «авторитарная часть» российского общества не выступит против подобного начинания, поскольку ориентирована на беспрекословное следование «линии власти»;
-
— начинаться с конкретных мер, которые соответствуют наиболее выраженному общественному запросу, связанному с демократизацией: укрепления основ правового государства,
обеспечения равенства перед законом, противодействия коррупции;
-
— «Рассчитывать на чисто низовое движение, которое все опрокинет, которое пробьет себе дорогу, на мой взгляд, нереалистично и, кроме того, еще и безнравственно. Поэтому, в принципе, импульс сверху крайне необходим. Но если не будет задействована эта сила [интеллигенция], если не будет проведена работа просвещения, то даже появившиеся импульсы неизбежно заглохнут. Ибо наша русская власть имеет громадный опыт гашения импульсов, громадный опыт того, как все это уходит в песок, если не получает отклик» ( Из дискуссии. В. Л. Шейнис, доктор экономических наук, бывший депутат Государственной Думы );
-
— не менее важно и поступательное движение в области политической либерализации: расширение свободы СМИ, либерализация законодательства об общественных организациях, совершенствование избирательных процедур;
-
— иметь инструментальный характер и «экономическое наполнение»: субэлитные группировки, малый бизнес, «средний класс» должны получить значимые свидетельства того, что расширяются их возможности высказывать свою позицию и отстаивать свои интересы во всех ветвях власти — исполнительной, законодательной и судебной.
Из содержательных характеристик демократии граждане России в первую очередь отмечают те, которые ассоциируются с глубинной ценностью «справедливости». Под это определение подходят три из пяти самых популярных ответов. Эти содержательные характеристики демократии, по сути дела, описывают общественный запрос на «праведное государство»: «равенство граждан перед законом и судом» (лидирует с огромным отрывом от всех остальных — 63 %), «обязанность государства учитывать мнения и интерес каждого гражданина» (третье место с 35 %) и «подотчетность власти гражданам на всех уровнях» (пятое место с 29 %). Очевидно, такой запрос носит широкий, практически мировоззренческий характер, охватывающий и «правовое государство», и весь комплекс понятий «социальной справедливости» (исследования последних лет показывают, что «уравниловка» постепенно уступает роль ключевой характеристики этого понятия равенству перед законом и равенству возможностей).
«Для людей сегодня равенство — это равенство всех перед законом. Отсутствие этого равенства есть ахиллесова пята российской демократии, с точки зрения людей» ( Из дискуссии. В. В. Федоров, генеральный директор ВЦИОМ ) .
В число приоритетных характеристик демократии также попадают базовые свободы — слова, передвижения, вероисповедания, то есть то практическое наполнение демократии, ценность и значимость которого россияне могли оценить в повседневной жизни. Эта позиция занимает второе место (37 %).
Наконец, третья составляющая, получившая значимую поддержку граждан, — «право граждан свободно избирать и менять власть на всех уровнях» (32 %, четвертое место).
В то же время относительно малое значение (на уровне 10—12 %) россияне придают таким характеристикам демократического строя, как «право СМИ критиковать власть и свободно высказываться на любые темы», «наличие нескольких партий, которые борются за власть» и «свобода мирных собраний и объединений граждан». Это именно те темы, которые стоят на первом плане у так называемой «несистемной оппозиции». В целом исследование показало, что к основным составляющим демократии респонденты относят: демократические свободы, в первую очередь свободу слова, печати; свободные выборы; соблюдение прав человека, Конституции, законности; возможность граждан влиять на ситуацию в стране, гражданский контроль над властью, прозрачность власти (гражданское общество).
Модернизация и развитие российской модели демократии совпадают не только по своей сверхзадаче — превращению России в передовую и самую привлекательную для жизни страну. У обоих процессов есть еще одна общая черта: они направлены на оптимизацию участия всех созидательных сил в экономике, политике, бизнесе, общественной жизни страны и создание механизмов цивилизованного сотрудничества, конкуренции и разрешения возникающих конфликтов. Успех в реализации этих проектов — залог национального успеха России.
-
1. Адорно Т. Типы и синдромы. Методологический подход. Гл. из книги «Авторитарная личность» // Социологические исследования. 1993. № 2.
-
2. Большаков И. В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации // Полис. 2011. № 5. С. 104—116.
-
3. Ворожейкина Т. Е. Авторитарные режимы ХХ века и современная Россия: сходства и отличия // Вестн. общественного мнения. 2009. № 4.
-
4. Зевина О. Г., Макаренко Б. И. Об особенностях политической культуры современной России // Полис. 2010. № 3.
-
5. Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты. Теоретико-методологические и прикладные аспекты. М., 1999.
-
6. Харитонова О. Г. Генезис демократии (Попытка реконструкции логики транзитологических моделей) // Полис. 1995. № 5.
Список литературы Демократизация как фактор самоопределения России
- Адорно Т. Типы и синдромы. Методологический подход. Гл. из книги «Авторитарная личность»//Социологические исследования. 1993. № 2.
- Большаков И. В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации//Полис. 2011. № 5. С. 104-116.
- Ворожейкина Т Е Авторитарные режимы ХХ века и современная Россия: сходства и отличия//Вестн. общественного мнения. 2009. № 4.
- Зевина О. Г., Макаренко Б. И. Об особенностях политической культуры современной России//Полис. 2010. № 3.
- Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты. Теоретико-методологические и прикладные аспекты. М., 1999.
- Харитонова О. Г Генезис демократии (Попытка реконструкции логики транзитологических моделей)//Полис. 1995. № 5.