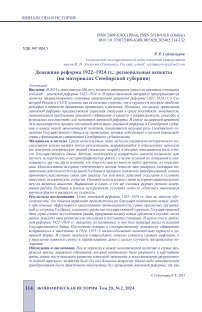Денежная реформа 1922-1924 гг.: региональные аспекты (на материалах Симбирской губернии)
Автор: Сейтумеров Р.Р.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Финансовая история
Статья в выпуске: 2 (65) т.20, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В 2024 г. исполняется 100 лет с момента завершения одного из значимых нэповских событий - денежной реформы 1922-1924 гг. В представленном материале предпринимается попытка проанализировать основные направления денежной реформы 1922-1924 гг. в Советской России и СССР, показать как ее сильные стороны, так и трудности, которые наиболее рельефно в период ее проведения проявились в регионах. Показано, что началу проведения денежной реформы предшествовала серьезная дискуссия в среде российских экономистов, занимающихся проблемами денежного обращения и кредита о направленности, способах и возможных последствиях для экономики денежной реформы. В статье на широкой архивной базе анализируется процесс поэтапной реализации денежной реформы в Симибрской губернии в начале новой экономической политики, показывается ведущая роль симбирского отделения Государственного банка в ее проведении, которое действовало в полном взаимодействии с финансовым управлением симбирского губисполкома.
Банки, кредитно-финансовое регулирование, валюта, червонец, советские расчетные знаки (совзнаки), финансовые комиссии
Короткий адрес: https://sciup.org/147243841
IDR: 147243841 | УДК: 947.084.5 | DOI: 10.15507/2409-630X.065.020.202402.114-132
Текст научной статьи Денежная реформа 1922-1924 гг.: региональные аспекты (на материалах Симбирской губернии)
В представленном материале предпринимается попытка проанализировать основные направления денежной реформы 1922–1924 гг. в Советской России и СССР, показать как ее сильные стороны, так и трудности, которые наиболее рельефно проявились в регионах в период ее проведения. Показано, что началу проведения денежной реформы предшествовала серьезная дискуссия в среде российских экономистов, занимающихся проблемами денежного обращения и кредита о направленности, способах и возможных последствиях денежной реформы для экономики. В статье на широкой архивной базе анализируется процесс поэтапной реализации денежной реформы в Симбирской губернии в начале новой экономической политики, показывается ведущая роль Симбирского отделения Государственного банка в ее проведении, которое действовало в полном взаимодействии с финансовым управлением Симбирского губисполкома. Автор статьи доказывает, что денежная реформа 1922–1924 гг. была составной частью целого перечня социально-экономических преобразований кредитно-финансовой направленности, среди которых возрождение региональной кредитно-финансовой системы, порушенной в период реализации политики военного коммунизма, создание и налаживание товарно-сырьевой биржи. Реформа также осуществлялась в условиях общей парадигмы экономического восстановления, наступившего в период НЭПа.
После перехода к новой экономической политике в стране разразился кризис денежного обращения, который необходимо было разрешить в кратчайшие сроки, иначе поступательное развитие советской экономики и восстановление разрушенного войной народного хозяйства было бы под большим вопросом. Какие-либо экономические преобразования были практически невозможны без проведения денежной реформы, так как обвальное обесценение рубля – со-взнака препятствовало воссозданию в стране товарно-денежных рынков.
Изначально на созданный в октябре 1921 г. Государственный банк и его отделения на местах правящим руководством страны была возложена задача сначала налаживания, а затем и поддержания денежного обращения в стране в целом и в ее регионах в частности. В его деятельности по поддержанию денежного обращения можно четко проследить три основных периода. Первый – период стабилизации денежного обращения в стране (конец 1921 – конец 1922 г.). Он характеризуется, во-первых, установлением курса золотого рубля на товарно-сырьевых биржах; во-вторых, проведением нескольких денежных эмиссий дензнаков с целью повышения их текущего курса; в-третьих, выпуском беспроцентных обязательств Народного комиссариата финансов, которые имели хождение наряду с кредитными билетами и денежными знаками. В-четвертых, была проведена деноминация денежного знака. В-пятых, Государственный банк, с тем чтобы его капиталы не уничтожила инфляция, был вынужден назначать кредитополучателям высокие проценты, включая страховку от обесценения выданных средств.
Второй период начинается с конца 1922 г. и характеризуется выпуском «пробной партии» червонцев, проведением второй деноминации денежных знаков, разрешением сотрудниками Госбанка многочисленных конфликтов, связанных с обменом и хождением новой валюты на прежние денежные совзнаки, так как большинство населения стремилось поскорее избавиться от прежних денег, чтобы не понести убытки. Кроме того, отделения Госбанка стремились контролировать движение денежной массы, стараясь покрыть дефицит казначейских билетов выпуском облигаций государственных займов, контролировать уровень пассивов банков, чтобы ускорить оборот денежной массы, проводили товарные и денежные интервенции.
Третий период реализации денежной реформы в регионах (конец 1923–1924 г.) мы связываем с действиями отделений Государственного банка, направленными на расширение торговли хлебом и зерном, другими продуктами, а также закупкой и перепродажей промышленных товаров по более высоким ценам с целью ускорения денежного оборота. С целью ускорения оборота денежной массы и изъятия ее лишнего объема отделения Госбанка ускоряли проведение торговых операций, направляя своих служащих в качестве кассиров и заведующих складами.
Особый упор делался на то, что денежная реформа была произведена за счет подавляющей массы сельского населения, которое из-за различного курса вновь введенной валюты и старых совзнаков, которые находились в основном в руках крестьян, потерпели наибольшие убытки. В статье раскрываются основные причины и кратко рассказывается предыстория разрушения денежного обращения в регионе в период Гражданской войны и раскрываются те условия, которые препятствовали проведению денежной реформы в конкретно взятом регионе.
Представленный материал является актуальным для нашего времени, так как России, пережившей серьезные потрясения на рубеже 1980–1990-х гг., пришлось перестраивать денежную и кредитно-финансовую систему на рыночных началах, в связи с чем опыт нэповской денежной реформы может быть востребован и в современных условиях.
Материалы и методы
Источниковой основой статьи стали архивные материалы, среди которых ведущее место занимают материалы, характеризующие работу Симбирского отделения Государственного банка (Ф. 573), финансового отдела (управления) губисполкома (Ф. 183), а также другие фонды (Ф. 334) и материалы, хранящиеся в Государственном архиве Пензенской области (ГАПО), Российском государственном архиве экономики (РГАЭ). Использовались сборники, в которых содержатся нормативно-правовые документы кредитно-финансовой направленности1. Мы широко опирались на материалы, содержащиеся в экономических журналах «Плановое хозяйство», «Кредит и хозрасчет».
Среди используемых нами методов специально-исторического исследования можно назвать метод актуализации, выражающийся в определении ценности тех или иных исторических знаний (подходов, теорий), в которых описываются роль и место
Государственного банка. Методы логического и конкретного анализа позволили нам изучить исторические и историографические факты с учетом условий их появления и оказываемого друг на друга влияния, что помогло во многом найти причины, их породившие. Использование историко-генетического метода помогло раскрыть основные направления деятельности отделений Госбанка в процессе нэповских преобразований, понять причинно-следственные связи при анализе тех или иных действий отделения в условиях известных исторических событий. Основой используемого нами историко-сравнительного метода является аналогия. Выражение в одних и тех же сходных формах разного содержания работы Госбанка в разных исторических условиях помогло объяснить имеющиеся научные факты и раскрыть их сущность.
Результаты исследования
Успех денежной реформы 1922–1924 гг. был во многом обусловлен тем, что эмиссия червонцев производилась не благодаря напечатанию новых денег, а при помощи эффективного кредитования промышленности, кредитных организаций со стороны Госбанка, успешному развитию государственной торговли. Причем Государственный банк зорко следил за состоянием рынка, прекращая выдачу новых кредитов в случаях, когда рынок замедлял развитие или находился в состоянии стагнации. В целом итоги денежной реформы 1922–1924 гг. оказались позитивными, в чем был немалый вклад отделений Государственного банка. Постепенно доверие к государственному денежному обращению возвращалось к населению, в 1924–1925 гг. налогообложение окончательно перешло к денежной форме. В стране оживился товарооборот, заметно снизился уровень инфляции, у населения появился стимул к зарабатыванию денег с целью улучшения материального положения.
С целью контроля объема наличных денег отделения Госбанка активно сотрудничали с местными трестами и синдикатами, Симбирской товарно-сырьевой биржей. Чтобы привлечь потенциальных покупате- лей, банки делали скидки оптовикам для приобретения крупных партий товара, выделяли значительные средства на выплату задатков наличными. Все эти меры также способствовали регулированию нормального денежного обращения.
В ходе проведения денежной реформы отделениями Госбанка на местах в 1923– 1924 гг. нередко получалось так, что рядом с реальным, фактически существующим совзнаком существовала другая денежная единица – «идеальный золотой рубль», курс которого периодически публиковался. К данной схеме не всегда могли приспособиться кооперативы, директора частных предприятий, государственные торговые организации и частники. Однако главные действующие лица российского товарооборота – мелкие производители-крестьяне – совершенно не умели пользоваться ухищрениями с перерасчетами на основе золотого рубля, несли значительные убытки, что имело следствием огромное недовольство, так как они понимали, что их нередко обманывали, наживались за их счет.
Реформа 1922–1924 гг. привела к серьезным экономическим трудностям на местах. Во-первых, искусственное, несбалансированное снижение бюджетного дефицита привело к кризису денежной наличности, которой катастрофически не хватало, так как население, в условиях крайней неустойчивости и нестабильности курса совзнака, реально не смогло сделать никаких накоплений. Во-вторых, ошибочным был преждевременный перевод выплаты натурального налога наличными деньгами. В итоге население было вынуждено отдавать свой хлеб по низким ценам, чтобы любой ценой получить наличные деньги для уплаты налога. Это привело к тому, что, во-вторых, на рынке оказалось очень много дешевого хлеба, который скупали в основном отделения Госбанка, размещали на своих складах и позднее перепродавали. Достаточно серьезно на хлебе нажились спекулянты, а крестьяне, недополучив значительные суммы, которые они могли бы потратить на промышленные товары, практически остались ни с чем. В результате пострадала легкая промышленность, когда крестьяне не закупили необходимую им обувь, ткани, сукно, а также тяжелая промышленность, когда те же крестьяне не могли закупить сельскохозяйственные орудия. В результате произошло затоваривание складов нереализованным товаром. В-третьих, нарушение товарообмена привело к тому, что промышленность начала нести неоправданные потери, так как было не на что закупать сырье, нечем выплачивать заработную плату.
В 1925–1926 гг. кризисные явления, связанные с отсутствие в должных объемах денежной наличности, продолжались, однако были успешно преодолены отделениями Государственного банка путем временного сокращения кредитования и предпринятых мер для снижения розничных цен. Также кризис, связанный с нехваткой наличности, обострялся в период так называемых хлебных кризисов 1927 и 1928 гг., когда крестьяне придерживали наличные деньги, ожидая более справедливых государственных цен за произведенный хлеб и другие продукты. В эти годы кризисы наличности также преодолевались путем запрещения обмена червонцев на зарубежную валюту, сокращения кредитования, ускорения поступления средств предприятий и учреждений на банковские счета, усиления налогового давления, а также сокращения (в очередной раз) бюджетных расходов.
Именно успешно проведенная в 1922– 1924 гг. денежная реформа дала возможность Государственному банку и его отделениям на местах успешно выполнять те функции, которые были непосредственно на него возложены Наркоматом финансов: создавать (правильнее было бы воссоздавать) кредитные учреждения, развивать кредитные сделки (займы, вклады), вовлекать в кредитные отношения всё новые и новые субъекты рынка. Государственная промышленность и все государственное хозяйство в целом, опираясь на предсказуемый, «подъемный» кредит, получили возможность планировать и рассчитывать свои цены и прибыль, определять все издержки производства.
Обсуждение и заключение
После перехода к новой экономической политике в стране разразился кризис денежного обращения, который необходимо было разрешить в кратчайшие сроки, иначе поступательное развитие советской экономики и восстановление разрушенного войной народного хозяйства было бы под большим вопросом. В Симбирской губернии в кризисном 1921 г. в качестве денег обращались как царские деньги, так и деньги Временного правительства, советские расчетные знаки (совзнаки), а также симбирские суррогаты, выпускаемые в период Гражданской войны. В основном это были облигации всевозможных займов, выпускаемые как царским, так и Временным правительством, на которых стоял штемпель отделения так называемого Народного банка.
Население носило с собой сумки таких денег, оплачивая преимущественно мелкие покупки – товары первой необходимости и продовольствие. Крупные сделки, обычно совершаемые теневыми дельцами, оплачивались или по бартеру (товар на товар), или царскими золотыми монетами пятирублевого и десятирублевого достоинства. Периодически газеты публиковали объявления о валютах и суррогатах, изымаемых из оборота. Люди, получив из газет или по радио сведения о том, что те или иные деньги изымаются из оборота, немедленно бросались от них избавляться, так как в объявлении давалось несколько дней на то, чтобы их обменять на какие-либо другие деньги [4, с. 123–124].
Начиная с марта 1921 г. у рыночных торговцев-спекулянтов перестали изымать товары в пользу государства, а советские учреждения и промышленные предприятия испытывали огромные трудности, так как у них в обороте были только совзнаки, которые никто не хотел брать: ни служащие и рабочие за выполненную работу, ни тем более крестьяне не хотели отдавать за них реальное продовольствие, за которое они предпочитали брать или промышленные товары, или царские золотые червонцы. Рабочие и государственные служащие предпочитали получать продуктовые или, что было край- не редко, товарные пайки, что позволяло им существовать исключительно впроголодь. С продовольствием и особенно промышленными товарами в 1921 г. были такие перебои, что рабочие и служащие были вынуждены были брать заработную плату совзнаками. У них было несколько часов на то, чтобы реализовать эту «макулатуру» на рынке, так как на другой день они уже обесценивались. Промышленные предприятия приобретали сырье для производства по разнарядке на дотации и трансферты, которые они получали по сложной системе взаиморасчетов через Наркомат финансов (НКФ). В перспективе перед экономикой страны маячил полный коллапс. Без денежной реформы, по мнению В. А. Дьяченко, воссоздать в стране товарно-денежный рынок не представлялось возможным [6, с. 43–44]. Подобное положение дел сохранялось в губернии вплоть до октября 1921 г., пока не был создан Государственный банк и не начали формироваться его отделения в губерниях. Изначально Госбанк входил в состав Народного комиссариата финансов на правах обособленного управления. Его главная задача заключалась в стабилизации денежного обращения.
Сразу и немедленно, начиная с весны 1921 г., провести денежную реформу было невозможно, так как для ее проведения не было никаких предпосылок. Необходимо было не только создать действенную систему взаиморасчетов, но и возродить кредитно-финансовую систему, полностью разрушенную в ходе военно-коммунистических «преобразований». Совет народных комиссаров (СНК) постепенно стал создавать эти предпосылки. Первые шаги были сделаны осенью 1921 г., когда наряду с возрождением Госбанка временным эквивалентом «твердой валюты» стал так называемый золотой рубль, введенный в оборот декретом СНК от 14 ноября того же года2. Это практически означало, что сохранившимися в значительном количестве у населения золотыми пятирублевками и десятирублевками можно уже было рассчитываться, не опасаясь, что их кто-то отнимет, как это было в 1918–1920 гг. Золотой рубль немедленно вырос в цене. У нас нет сведений за 1921–1922 гг., однако мы обнаружили в Государственном архиве Пензенской области сведения о динамике обменных курсов золотого царского рубля на дензнаки 1923 г. Если в августе 1923 г. за пятирублевую монету спекулянты давали 2 200 руб. дензнаками 1923 г., то уже в сентябре – 6 200 руб.3 Одновременно с введением золотого рубля проходила эмиссия совзнаков, причем совзнаки 1923 г. были гораздо дороже в цене, чем совзнаки, выпущенные в 1922 г. Это происходило потому, что власти, опасаясь накопления у спекулянтов дензнаков прежних лет выпуска, постоянно обменивали их на более «свежие», причем в ограниченных количествах. Чтобы не понести потери, население старалось «сбросить» дензнаки прежних лет.
Для того чтобы это произвести, в 1921 г. СНК РСФСР издал два декрета. На основании одного из них, принятого 16 июня 1921 г., была проведена первая эмиссия дензнаков номиналом от 100 до 10 тыс. руб., а следующий декрет СНК РСФСР санкционировал выпуск совзнаков достоинством от 25 тыс. до 100 тыс. руб. [13, с. 113]. Денежное обращение удалось несколько стабилизировать, когда на основе декрета СНК от 15 сентября 1921 г. были выпущены беспроцентные обязательства НКФ номиналом от 1 до 10 млн руб., которые имели хождение наряду с существующими кредитными билетами и расчетными знаками. Их обращение позволило немного облегчить взаиморасчеты между предприятиями4.
Однако вплоть до конца 1923 г. продолжался выпуск денежных знаков, масса кото- рых, по оценке Л. Юровского, с 1 июля 1921 по 1 января 1923 г. увеличилась в 850 раз. Они стали именоваться не «расчетные знаки», как раньше, а «денежные знаки»5. Одной из мер, которую провели Госбанк и его отделения на местах, стала так называемая деноминация, когда 1 руб. государственного дензнака был приравнен к 10 тыс. руб. кредитных билетов и «расчетных знаков» более ранних выпусков. Причем, как уже говорилось ранее, обмен деноминированных денежных на неденоминированные расчетные знаки проводился частным лицам с некоторыми ограничениями6.
В том же 1921 г. в качестве подготовки к предстоящей реформе в Симбирской губернии, как и в целом по стране, открылись товарно-сырьевые биржи, где происходили локальные торги по установлению официального курса золотого рубля7. Они открылись на основе письменного распоряжения ВЦИК Народному комиссариату финансов, в котором были предписаны сокращение выпуска денежных знаков образца 1921 г. и подготовка к введению новой валюты [15, № 3, с. 3–34]. Если подытожить все вышесказанное, то можно увидеть, что период с весны 1921 по осень 1923 г. был временем стабилизации существующего денежного обращения, подготовкой к предстоящей денежной реформе. Подготовка к непосредственному введению в обращение принципиально новой валюты осуществлялась постепенно и с большой осторожностью.
Однако в целом эти введения мало повлияли на экономическое положение в стране в 1921–1922 гг.: оно продолжило стремительно ухудшаться. Инфляция стремительно нарастала, а воссоздать в этих условиях действенную систему кредитования не представлялось возможным. В 1922 г. единственным кредитодателем (если не считать полуподпольные частные кредитные капиталы) выступали только отделения Государственного банка. В крайних случаях, по категоричным требованиям местных органов власти, они все-таки начали давать кредиты государственным учреждениям и предприятиям, однако только краткосрочные, сроком от одного до трех месяцев, под огромные проценты, включая в них страховку от обесценения выданных средств [15, № 4–5, с. 10–25].
Однако в 1922 г. экономика, несмотря на все переживаемые трудности, начала постепенно выходить из кризиса. По подсчетам Госплана, общая товарная масса по сравнению с 1921 г. в 1922 г. увеличилась на 22 % и составила 3,42 млрд руб. (в золотом исчислении), а к концу 1923 г. составила в целом по стране 4,57 млрд руб. К выпуску новых, «твердых» денег Государственный банк приступил только после серьезного анализа экономического положения в стране. На Государственный банк с началом денежной реформы были возложены функции проведения денежной эмиссии. Был начат выпуск банкнот достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 25 червонцев [13, с. 121]. Была проведена вторая деноминация рубля, когда 1 руб. образца 1923 г. приравнивался к 1 млн совзнаков ранних выпусков. Организаторы денежной реформы стремились установить твердые цены на товары, хотя бы первой необходимости. В 1921–1922 гг. этого невозможно было сделать, так как все стремились как можно быстрее избавиться от совзнака, а задерживать его на руках, в кассах без огромных убытков было никак нельзя. Его курс изменялся несколько раз в течение одного дня [5].
Именно на отделения Госбанка в губерниях на основании директивы НКФ от 18 декабря 1922 г. № 8089 были возложены функции поддержания денежного обращения в регионах страны8. Отделения Госбан- ка на местах, в частности в Симбирской (с 1924 г. Ульяновской. – Р. С.) губернии, превратились в главного регулятора денежного обращения в регионах, причем они действовали совместно с губернским управлением НКФ, его налоговыми структурами, с финансовыми отделами исполкомов уездов и городов. В губерниях они контролировали движение денежной массы, старались покрыть дефицит казначейских билетов выпуском облигаций государственных займов, пытались минимально выпускать в обращение новую советскую валюту (червонцы), проводили разумную кредитную политику, причем не только в своих отделениях на местах, но и контролировали отделения других, вновь созданных советских банков (Промбанка, Сельхозбанка, Коммунального банка, Всекобанка), заключающуюся в контроле уровня пассивов банков, активизировали и требовали от других активизации банковских операций, что способствовало ускорению оборота денежной массы, активно участвовали в торговых операциях и проводили так называемые товарные и денежные интервенции с целью улучшения обращения выпущенных денег9.
Ульяновское отделение Государственного банка выступало не только как банк и как регулятор банковской деятельности в регионе, но и как торгово-посредническая фирма. Это делалось с одной целью: увеличить основной каптал банка, для того чтобы ему приходилось покрывать убытки других, не столь эффективных рыночных игроков. В 1923–1924 гг. Ульяновское отделение Государственного банка, помимо торговли хлебом, активно реализовывало клиентам и промышленные товары. Самостоятельно закупали в деревнях шерсть, льняные ткани домашней выработки, изделия сельских ремесленников и кооперативных мастерских, а на предприятиях текстильной промышленности – ходовой товар (сукно, ткани), складировали его на специальных складах, площадь которых в 1923–1924 гг. увеличилась в 2 раза, отпускали его в кредит на три-четыре месяца, продавали по частям государственным учреждениям. С целью ускорения оборота денежной массы и изъятия ее лишнего объема отделения Госбанка ускоряли проведение торговых операций, направляли служащих в качестве кассиров и заведующих складами покупателей с целью ускорения торговых операций10.
Для того чтобы в ходе проводимой денежной реформы контролировать объем наличных денег в губернии, сотрудники Симбирского (Ульяновского) отделения Госбанка устанавливали продажную цену товара совместно с трестами, синдикатами и Симбирской торговой (товарно-сырьевой) биржей. Чтобы привлечь потенциальных покупателей, банки делали скидки оптовикам для приобретения крупных партий товара, выделяли значительные средства на выплату задатков наличными. Все эти меры также способствовали регулированию нормального денежного обращения11.
При участии Ульяновского отделения Государственного банка торговые организации и промышленные предприятия, кооперативы, для того чтобы поддержать со-взнак, пока не поступили новые червонцы, пытались устанавливать так называемые идеальные ценовые курсы. В них с опережением устанавливались «приблизительные» цены, а оплата производилась по публикуемому курсу. Что получалось в итоге? Фактически рядом с реальным, фактически существующим совзнаком существовала другая денежная единица – «идеальный золотой рубль», курс которого периодически публиковался. Однако такой корректировки курса совзнака оказалось недостаточно. К ней не всегда могли приспособиться кооперативы, директора частных предприятий, государственные торговые организации и частники. Они прибегали к «золотому исчислению цен» и каждый день имели воз- можность производить расчеты и вносить корректировки. Однако главные действующие лица российского товарооборота – мелкие производители-крестьяне – совершенно не умели пользоваться ухищрениями с перерасчетами на основе золотого рубля, несли значительные убытки, что имело следствием огромное недовольство, так как они понимали, что их часто обманывали, наживались за их счет. Для развития экономики требовался материальный «твердый» рубль, которые позднее и был введен под названием «червонец».
Почему-то в некоторых публикациях, особенно вышедших в центральной печати [9; 14], авторы утверждают, что денежная реформа прошла гладко, быстро и эффективно [1, с. 67–90]. Однако в регионах, принадлежащих Среднему Поволжью, в частности в Татарской АССР, Симбирской губернии, наблюдались серьезные трудности и даже противоречия при ее проведении. Известный казанский исследователь Р. В. Шайдуллин считает, что искусственное, несбалансированное снижение бюджетного дефицита привело к кризису денежной наличности, которой катастрофически не хватало, так как население в условиях крайней неустойчивости и нестабильности курса совзнака реально не смогло сделать накопления. Также имел негативные последствия преждевременный перевод выплаты натурального налога на наличные деньги, что начиная с 1923 г. потребовали налоговые органы. В итоге крестьяне были вынуждены отдавать свой хлеб по низким ценам, чтобы любой ценой получить наличные деньги, даже самые неустойчивые, подверженные ежедневной инфляции, для уплаты налога [17, с. 26–27].
Но и это еще не все. Нарушение товарообмена привело к тому, что промышленность начала нести неоправданные потери, так как было не на что закупать сырье, нечем выплачивать заработную плату. По законам рыночной экономики предприятия должны были понизить цены на свою продукцию, чтобы оживить рынок, заставить крестьян, которых в стране было подавляю- щее большинство, вложить в товары имеющиеся у них незначительные средства. Однако вместо этого, как оказалось ошибочно, ВСНХ потребовал от трестов и синдикатов «получить прибыль любой ценой», так как предприятия могли массово остановиться и наступил бы производственный коллапс. Во исполнение этого «благого пожелания» ВСНХ СССР 16 ноября 1923 г. издал приказ с подобным требованием под № 394, тресты и синдикаты повысили отпускные цены на 20 % и более. Развернулся кризис перепроизводства, связанный с так называемыми ножницами цен [17, с. 26–27].
Отделению Государственного банка необходимо было учитывать еще тот факт, что в начале – середине 1922 г. кредитные операции, столь необходимые стране, развивались с огромным трудом. Совзнак настолько быстро обесценивался, что и должник, и кредитор терпели огромные убытки, старались проводить торговые операции в течение одного дня, чтобы совзнак ни в коем случае не оставался в кассе на ночь, так как утром его курс мог быть уже совершенно другим. Так дальше быть не могло, необходимо было принимать радикальные меры, чтобы оживить экономику, и они были приняты. Постановлением СНК от 27 июля 1922 г. Государственному банку было предоставлено право выпускать червонные банкноты исключительно для обеспечения проводимых им коммерческих операций. Эти операции первоначально проводились исключительно в отношении государственных предприятий, имеющих важнейшее общероссийское или местное значение. Червонные банкноты использовались как основное средство для выдачи краткосрочных ссуд. Еще Госбанк учитывал так называемые надежные векселя [5].
В начале 1923 г. были выпущены первые червонцы. Они приравнивались к довоенным золотым деньгам: 1 червонец был равен 78,24 доли чистого золота, или 10 золотым царским рублям. Было объявлено, что выпускаемые в обращение червонцы не менее чем на 1/4 выделяемой суммы обеспечивались золотом или одной из устойчивых мировых валют (фунтом стерлингов, долларом, франком). Размен червонца откладывался на неопределенный срок: власти боялись, что его досрочный выпуск приведет к его инфляции [10].
В начале 1923 г. червонец был выпущен в оборот. Для того чтобы он активно использовался в новых экономических условиях, отделения Государственного банка принимали самые неординарные меры. Во-первых, по первому предъявлению к оплате (обмену) новых червонцев отделения Госбанка немедленно выдавали в кассе возрастающую по объему и неизменную по покупательной способности пачку совзна-ков. Во-вторых, был установлен контроль над всеми кредитно-финансовыми операциями, и случаи потерь со стороны держателей червонцев при их обмене на совзнаки отсутствовали [10].
Когда решался вопрос, успешно или неуспешно завершится денежная реформа в регионах, определяющим стал 1923 г. Все в целом развивалось по наилучшему сценарию. Червонцы постепенно и везде входили в товарооборот и к осени 1923 г. заняли в нем лидирующее место, постепенно вытесняя совзнак. Чем в 1923 г. отличалось хождение новой валюты? Во-первых, червонец стал необходимым для оборота средством обращения, накопления и страхования от продолжающегося обесценения совзнака, который функционировал параллельно. Во-вторых, по мере роста экономики, ее возрождения потребность товарооборота в червонных рублях значительно возрастала [14].
Если вникнуть в суть этого внешнего благополучия, за успешным внедрением новой советской валюты – червонца – стоял титанический труд банковских сотрудников отделений Государственного банка. Симбирскому отделению Госбанка приходилось разрешать сложные задачи. Очень сильно вредило делу параллельное хождение в 1923–1924 гг. двух валют – совзнака, постоянно обесценивающегося, и «твердой валюты» – червонца. В эти годы наблюдались параллельные курсы хождения валют. Население, особенно сельское, пыталось всеми правдами и неправдами «сбросить» имеющиеся запасы денежных знаков старого образца, так как они настолько быстро обесценивались, что крестьяне в течение одного-двух дней могли понести убыток в 20–30 %, а государственные учреждения, промышленные предприятия, наоборот, всячески пытались им эти дензнаки навязать, что вызывало массовое недовольство и отказ от проведения сделок, например по продаже хлеба и другого продовольствия заготовительным организациям за дензнаки12.
Черный денежный рынок быстро отреагировал на подобные коллизии. Так, если в январе 1924 г. один червонец продавался за 30 тыс. руб. в пересчете на денежные знаки 1923 г., то по состоянию на февраль того же года один дензнак стоил уже 86 тыс. руб. [13, с. 126].
Крестьяне остро страдали от этой разницы и понимали, что городские жители, госучреждения, промышленные предприятия их просто грабят, т. е. зарабатывают на подобном положении дел. По некоторым подсчетам, за счет неэквивалентного обмена, во многом спровоцированного несвоевременным обеспечением обмена дензнака 1923 г. на новую «твердую валюту», крестьяне потеряли примерно 500 млн золотых рублей13.
Профессор А. Литощенко однозначно заявил, что именно крестьянство вынесло на своих плечах главную тяжесть денежной реформы 1922–1924 гг., так как именно оно понесло главные потери из разницы в курсах валют, когда новые червонцы обращались в основном в городах, а в деревню их или совсем «не пропускали», или обменивали сельским жителям по спекулятивному курсу14.
Однако, по его мнению, пострадало и государство, которое не смогло получить с крестьян значительное количество как прямых, так и косвенных налогов, так как крестьяне, не имея необходимых средств в результате неэквивалентного обмена промышленных товаров на продовольствие, значительно снизили потребление сахара, табака, спиртных напитков, спичек, соли и керосина – тех товаров, которые являлись основным объектом косвенного налогообложения15.
Была еще одна, чисто специфическая, касающаяся только Симбирской (Ульяновской) губернии причина затруднений денежной реформы, непосредственно связанная с деятельностью местного отделения Государственного банка. Руководство банка совершило серьезную оплошность, неправильно поняв команду, поступившую из главной конторы. В начале 1923 г. из главной конторы Госбанка пришло письмо, суть которого состояла в том, что руководство Государственного банка предписало попридержать денежные знаки 1921–1922 гг. выпуска16.
Сотрудники Симбирского отделения Госбанка непродуманно уничтожили их запас по своей инициативе. Новые деньги – червонцы – прибыли с 3–4-месячным опозданием, так как были напечатаны не вовремя. В результате наступили серьезные последствия, так как касса губернского казначейства весной – летом 1923 г. превратилась в «несостоятельного кредитора». Когда летом 1923 г. в Симбирскую губернию прибыли первые отпечатанные 60 тыс. червонцев, они покрыли 5 % от требуемого для нормального функционирования бюджетной, банковской, кредитно-финансовой и налоговой деятельности объема. Еще хуже обстояло дело с разменной монетой, которой также катастрофически не хватало. В губернии начался ажиотаж, а цена червонца подскочила до 100 тыс. дензнаков 1923 г. Многие крестьяне и предприниматели снова понесли серьезные убытки17.
Были и еще трудности, с которым встретились сотрудники Симбирского отделения Государственного банка при проведении денежной реформы. Ажиотаж возник при обмене старой валюты (дензнаков) на червонцы. Банковским сотрудникам приходилось разрешать многочисленные конфликты, некоторые из них – только с помощью милиции и других правоохранительных органов18.
Суть конфликтов состояла в том, что отделение Госбанка не смогло своевременно выделить необходимое количество кассиров. Возникли огромные очереди из желающих обменять старую валюту на новую. За это время дензнаки настолько обесценивались, что люди несли огромные финансовые потери19.
Для того чтобы успокоить беснующиеся толпы, решением руководства Симбирского отделения Госбанка был создан так называемый забалансовый фонд из которого власти пытались компенсировать людям их потери на то время, пока они стояли в очереди. Ажиотаж, драки и побоища прекратились только к концу 1923 г., когда Симбирское отделение Госбанка в основном завершило обмен валюты государственным учреждениям, частным лицам и предприятиям. Обмененные совзнаки были изъяты из обращения и ликвидированы20.
Трудности отделения Госбанка на этом не закончились. В отличие от городских жителей, крестьяне в своей основной массе не успели до конца 1923 г. обменять свои наличные денежные знаки на червонцы, поэтому в некоторых селах произошли крестьянские выступления и волнения, положение грозило выйти из-под контроля. Чтобы успокоить ситуацию, власти были вынуждены организовать в селах передвижные обменные пункты. Конечно, ситуацию удалось успокоить, но крестьяне в ходе обмена потерпели самые значительные убытки21.
Однако много совзнаков оставалось на руках у населения, поэтому с 10 марта по 30 апреля 1924 г. Госбанк организовал выкуп старых купюр у населения. Здесь крестьянство также понесло серьезные потери, так как государственная выкупная цена была значительно ниже рыночной спекулятивной и составляла 500 тыс. совзнаков 1923 г. за 1 червонец, или 500 млрд руб. за совзна-ки более ранних выпусков. Какие-то другие деньги (керенские и царские) не принимались вообще [13, с. 129].
Эмиссия червонцев возрастала не благодаря напечатанию новых денег, а благодаря кредитованию промышленности, других появляющихся банков, обществ взаимного кредита, государственной торговли. Этим организациям кредиты выдавались новыми червонцами22.
Постепенно потребность товарооборота в червонных рублях возрастала. Весь процесс кредитования был поставлен в строгую зависимость от роста товарооборота рынка, а Госбанк, проводя сложные математические расчеты роста товарооборота, никогда не выдавал новые кредиты в червонцах, если рынок замедлял развитие или находился в том регионе в стагнации [1, с. 226].
Постепенно отделения Государственного банка на местах, реализуя политику РКП (б) – ВКП (б), стали все делать для того, чтобы постепенно вытеснять частный сектор из региональной экономики. С конца 1923 г. финансовые органы, отделения Госбанка старались, чтобы падающий совзнак концентрировался все больше в частном секторе, так как уже в 1923 г. были приняты первые решения по началу ограничения частного сектора, который считался «идеологически чуждым» [9].
Однако и там частные коммерсанты понимали, что именно стремление «сплавить совзнак» в частный товарооборот сулило крупные убытки, старались заполучить червонец любой ценой и держать накопления в этой валюте [3].
Естественная ликвидация совзнака рынком завершилась на рубеже 1923–1924 гг., о чем свидетельствует таблица.
Как видно из материалов, представленных в таблице, совзнак оказался вытесненным на 90 %, поэтому начало 1924 г. обозначилось быстрым ростом совзначных цен. За январь 1924 г. совзнак обесценился больше, чем за какой-либо другой месяц 1918–1923 гг.23
К зиме 1924 г. совзнак и червонец уже не могли общаться друг с другом, ибо в течение одного и того же дня курс совзнака мог взлететь на 10 % и более и связать их вместе при проведении той или иной торговой операции стало невозможно. Уже никто не соглашался менять червонец на совзнак по одному и тому же курсу, так как утренний курс уже значительно отличался от вечернего. На свободном рынке реальный курс червонца значительно обгонял его официальный курс, поэтому государственным учреждениям, синдикатам, трестам, чтобы не понести убытки, стало невыгодно рассчитываться по нему на основе официального курса. Все старались держать червонцы у себя [10, с. 41].
Торговцы валютой пользовались этим и продавали частникам червонцы по завышенным ценам, стремясь нажиться на спекулятивной «лихорадке». На рынке весной 1924 г. воцарились хаос, стремление спастись от курсовых потерь. Получился серьезный разрыв между городом и деревней. Город в своем основном большинстве перешел на червонец, а сельские мелкие товаропроизводители продолжали пользоваться совзнаком, неся огромные потери. Возникла серьезная перспектива хозяйственного кризиса [5].
Таблица
Соотношение совзнака и червонца в денежном обращении в СССР в период с января 1923 по февраль 1924 г. [1, с. 228] / Table
Ratio of the sovznak and chervonets in money circulation in the USSR in the period from January 1923 to February 1924
|
Дата / Date |
На долю сов-знаков в общей стоимости всех обращенных валют приходится в процентах на первое число соответствующего месяца / The share of sov-token in the total value of all currencies in circulation as a percentage as of the first day of the respective month is as follows |
То же самое приходится на долю червонца и сертификатов24 / The same is true of the chervonets and certificates |
Темп денежной эмиссии за месяц, т. е. отношение выпущенных за месяц совзнаков к их количеству, находящемуся в обращении по состоянию на первое число месяца / Monetary issue rate for the month, i.e. the ratio of sov-token issued during the month to their quantity in circulation as of the first day of the month |
Быстрота роста цен за месяц по индексу статистики труда / Speed of price growth per month by labor statistics index |
|
Январь 1923 г. |
91,4 % |
8,6 % |
31,8 |
30,4 |
|
Июль 1923 г. |
55,6 % |
44,4 % |
37,9 |
65,7 |
|
Январь 1924 г. |
15,7 % |
83,3 % |
85,6 |
213,7 |
|
Февраль 1924 г. |
11,0 % |
89,0 % |
Однако к 1924 г. СНК подготовил все условия для окончательной ликвидации со-взнака. Бюджет городов и других крупных поселений мог обойтись без него. Червонец прочно вошел в обиход, хотя не каждый мог просто так его получить. В начале 1924 г. НКФ выпустил казначейские билеты достоинством 1, 3 и 5 руб., приравнял их по покупательной способности к червонцу и одновременно начал изъятие совзнаков из товарооборота. Государственному банку и его отделениям на местах был поручено создавать такие условия, которые бы не позволили нанести ущерб вновь налаженному денежному обращению в стране.
В целом итоги денежной реформы 1922–1924 гг. оказались позитивными, в чем был немалый вклад отделений Государственного банка. Постепенно доверие к государственному денежному обращению возвращалось к населению, в 1924–1925 гг. налогообложение окончательно перешло к денежной форме. В стране оживился товарооборот, заметно снизился уровень инфляции, а у населения появился стимул к зарабатыванию денег с целью улучшить материальное положение25.
Важнейшей задачей, с которой столкнулись Госбанк и его учреждения на местах в 1924 г., стал контроль за наличием в обороте недавно выпущенных казначейских билетов. Эта задача осложнялась тем, что на места пришло очень мало денег мелких номиналов и их количество не удовлетво- ряло растущий товарооборот. Перевыпуск и появление новых казначейских билетов в количествах, превышающих потребности рынка, сразу привели бы к их обесценению. Однако еще не было снято другое противоречащее поддержанию устойчивого курса рубля требование: разрешение на местах бюджетного дефицита [14]. Практически во всех губерниях эта задача была выполнена: удалось совместить строгое соответствие размеров выпуска новых денег с потребностями товарооборота и добавить бюджетам необходимые 10–15 млн руб. в месяц26.
Итак, денежная реформа была проведена успешно, однако теперь Ульяновскому отделению Госбанка нужно было поддержать обращение вновь введенной валюты. Нэповское хозяйство, как государственное, так кооперативное и частное, стало развиваться после проведения денежной реформы и стабилизации денежного обращения по восходящей. Твердость нового рубля позволяла устойчиво вести дела и делать необходимые накопления. Казначейские билеты обращались гораздо медленнее, чем совзнаки, поэтому для их оборота стало требоваться гораздо меньше усилий. Благодаря этому фактору НКФ сумел в феврале – сентябре 1924 г. выпустить около 200 млн руб. казначейской валюты, ничуть при этом не поколебав твердый курс рубля [11]. Этому обстоятельству способствовали четко выверенные местными отделениями Госбанка заявки на напечатание и присылку в регионы новых денег27.
Другой не менее важной задачей, которую решали отделения Госбанка, было регулирование количества червонцев в обороте, для того чтобы не допустить их дефицита в товарообороте, а еще хуже – избытка. Для этого в 1924–1925 гг. требовалось ликвидировать так называемые товарные рубли, роль которых в 1923 г. выполнял только что введенный червонец, и перейти к назначению зарплаты в червонных рублях. Постепенно перевод товарных рублей в червонные был так же успешно завершен28. Рабочие и служащие в СССР перестали нести ощутимые потери из-за сильного падения курсовой стоимости совзнака и почувствовали действительный рост покупательной способности заработной платы. В условиях Симбирской (Ульяновской) губернии при губернской товарно-сырьевой бирже был создан фондовый отдел, работавший в тесном взаимодействии с отделением Госбанка, где осуществлялась продажа облигаций внутригосударственных займов, краткосрочных обязательств Центрокассы НКФ. Здесь следует оговориться. Платежные обязательства Центрокассы НКФ выпускались на основе постановления СНК от 7 февраля 1923 г. Сумма эмиссии составила 20 млн руб. золотом. Выпускались бумажные купюры достоинством 1 000, 2 000, 5 000 руб. Они использовались для ассигнования предприятиям, в первую очередь тяжелой промышленности, по планам бюджетного финансирования, которое происходило в форме платежных обязательств. Такие платежные обязательства получал Ульяновский патронный завод, который рассчитывался ими за поставки сырья, оборудования, материалов, полуфабрикатов [13, с. 122].
Кроме того, отделение Госбанка зорко следило за тем, чтобы не было налоговых недоимок, ликвидировался бюджетный дефицит всех уровней, увеличивался товарооборот на основе роста промышленного, сельскохозяйственного и кооперативного производства29.
Государственный банк и его отделения на местах, для того чтобы в том числе укрепить вновь введенную валюту, приняли активное участие в административном давлении на рынок, с тем чтобы сдержать рост цен на потребительские товары и повысить доверие населения к вновь созданной денежной системе [2].
В 1924–1925 гг. отделения Госбанка боролись с кризисом денежной наличности, охватившим Ульяновскую губернию. Его причинами, помимо основных, были названы отставание роста государственных доходов от государственных расходов, крайне низкий уровень заработной платы рабочих на предприятиях и служащих государственных учреждений, что не позволяло увеличивать подоходный налог. Однако главной причиной был низкий жизненный уровень подавляющей части сельского населения, что имело следствием его крайне низкую платежеспособность. Крестьянство не успело оправиться от тех ударов, которые по нему нанесли политика военного коммунизма и социально-демографические последствия Гражданской и Первой мировой войны. Не стоит также сбрасывать со счетов неурожай и голод 1920–1921 гг.30
По поручению руководства Ульяновской губернии и губкома ВКП(б) в 1925 г. была проведена проверка собираемости налогов, низкий уровень сбора которых способствовал кризису денежной наличности. Ревизия показала, что государственные служащие зарабатывали такие маленькие деньги по сравнению с масштабом цен, что в основном большинстве они не могли платить подоходный налог и квартирную плату, практически поголовно отказывались от уплаты страховки и арендной платы за недвижимость. Государственные учреждения, размещенные в городских зданиях, среди которых были детские дома, школы, располагали настолько незначительными средствами, что не имели возможности платить даже коммунальные платежи за потребленную электроэнергию и арендную плату. В 1921–1922 гг. большинство городских жителей продали все что могли: мебель, драгоценности, одежду (оставив самый минимум), для того чтобы выжить.
Нэпманы в 1922–1923 гг. сворачивали производство и уводили деньги в «тень», так как не могли платить огромные налоги, которые на них накладывали, и неподъемную арендную плату31.
Так как в 1922–1923 гг. налоговая база в должном объеме фактически отсутствовала, сбор налогов не мог реально повлиять на денежное обращение. Местная промышленность только разворачивала работу, а крупные предприятия, такие как симбирские суконные фабрики и патронный завод, находились в глубоком кризисе. Губернский бюджет к началу 1924 г. оказался на грани срыва. Образование финансировалось на 33 %, здравоохранение – на 18, коммунальное хозяйство – на 12 % [2]32. Косвенное налогообложение было выполнено на 22,3 %33.
Именно успешно проведенная в 1922– 1924 гг. денежная реформа дала возможность Государственному банку и его отделениям на местах успешно выполнять те функции, которые были непосредственно на него возложены Наркоматом финансов: создавать (правильнее было бы воссоздавать) кредитные учреждения, развивать кредитные сделки (займы, вклады), вовлекать в кредитные отношения все новые и новые субъекты рынка. Государственная промышленность и все государственное хозяйство в целом, опираясь на предсказуемый, «подъемный» кредит, получило возможность планировать и рассчитывать свои цены и прибыль, определять все издержки производства [12], хотя трудностей в конце 1924 – начале 1925 г. было немало. Некоторые ведомства нарушали функционирование бюджета несогласованными действиями, отдельные промышленные предприятия, например патронный завод, непосредственно подчиняющиеся ВСНХ, стремились войти в местный бюджет вместе со своим сальдо, т. е. желали, чтобы государственный губернский бюджет финан- сировал их убытки и издержки. В 1924 г. центр своевременно не перечислил в Ульяновскую губернию 342 тыс. руб. на выплату пенсий, и только после многочисленных напоминаний перевел 50 тыс. руб.34
Однако благодаря строжайшей экономии в 1924–1925 гг. удалось свести государственный бюджет без дефицита, избежать напечатания новых денег [7]. Перед Государственным банком и его отделениями на местах была не менее ответственная задача: соотнести наличие необходимого количества денег в экономике с возможностями постоянно расширяющегося народного хозяйства, не допустив скачков инфляции.
В Ульяновской губернии отделение Госбанка действовало в полном согласии с местными государственными и партийными органами. Для того чтобы поддержать денежное обращение в губернии и не допустить вливания туда лишних денег, что могло привести к инфляции, в доходную часть бюджета (а все губернские средства хранились на счетах отделения Госбанка) стал перечисляться весь валовый доход предприятий, которые теперь могли распоряжаться по своему усмотрению, опять только по согласованию с руководством отделения Госбанка, только оборотными средствами. Был снова введен секретный циркуляр НКФ (временно приостановленный в 1923–1924 гг.), на основе которого руководителям трестов и синдикатов было категорически запрещено получать какие-либо деньги от государства через бюджетные ассигнования, а только путем получения кредита в Государственном банке (местном отделении)35.
Отделению Госбанка было предписано совместно с налоговыми органами принять участие в контроле за счетами так называемой нэпманской буржуазии, с тем чтобы они не уходили от выплаты повышенных налогов, которыми их в 1925 г. как «клас- сово-чуждый элемент» обложили центральные и местные органы власти. Отделение Госбанка обязано было контролировать все подотчетные ему кредитные учреждения: другие акционерные банки, общества взаимного кредита, кредитные и ссудо-сберегательные крестьянские кооперативы на предмет, чтобы нэпманы-предприниматели не утаили со своих счетов суммы налоговых выплат36.
Отделения Государственного банка принимали активное участие в распродаже имущества должников, создали для этого специальный счет, на который налоговые органы перечисляли полученную «выручку». Туда же деньги перечисляли и представители так называемой нэпманской буржуазии, когда пытались выкупить арестованное имущество. Всего за счет продажи имущества нэпманов-должников на счет в Ульяновское отделение Госбанка поступило 500 тыс. руб.37 Отделение Госбанка приняло активное участие в финансовом аудите, который на частных предприятиях проводили финансовые органы с целью определения их реального товарооборота и повышения налогов по отношению к ним38. Денежное обращение в результате принятых мер в Ульяновской губернии на рубеже 1924–1925 гг. удалось стабилизировать и обеспечить поступательное развитие региона в последующем.
Если говорить в общем по стране, то Государственный банк и его учреждения на местах в целом выполнили возложенную на них задачу – стабилизации денежного обращения. Благодаря росту народного хозяйства денежное обращение ежемесячно расширялось. Так, если в феврале 1924 г. вся сумма обращающихся денег равнялась 393,5 млн червонных рублей, то в январе 1927 г. она уже составила 1 млрд 400 млн золотых рублей, т. е. экономика к 1927 г. вы- росла в 3,5 раза [8]. Покупательная способность червонных рублей к 1927 г. несколько снизилась, что объясняется советскими экономистами того времени рядом конъюнктурных и рыночных факторов [16].
Таким образом, реформа 1922–1924 гг. привела к серьезным экономическим трудностям на местах. Во-первых, искусственное, несбалансированное снижение бюджетного дефицита привело к кризису денежной наличности, которой катастрофически не хватало, так как население в условиях крайней неустойчивости и нестабильности курса совзнака не смогло сделать накопления. Во-вторых, ошибочным был преждевременный перевод выплаты натурального налога наличными деньгами. В-третьих, нарушение товарообмена привело к тому, что промышленность несла неоправданные потери.
Успех денежной реформы 1922–1924 гг. был во многом обусловлен тем, что эмиссия червонцев производилась благодаря эффективному кредитованию промышленности, кредитных организаций со стороны Госбанка, успешному развитию государственной торговли. Государственный банк зорко следил за состоянием рынка, прекращая выдачу новых кредитов в случаях, когда рынок замедлял развитие или находился в состоянии стагнации.
Итоги денежной реформы 1922–1924 гг. оказались позитивными. Постепенно доверие к государственному денежному обращению возвращалось к населению, в 1924–1925 гг. налогообложение окончательно перешло к денежной форме. Оживился товарооборот, у населения появился стимул к зарабатыванию денег с целью улучшить материальное положение.
Список литературы Денежная реформа 1922-1924 гг.: региональные аспекты (на материалах Симбирской губернии)
- Айхенвальд А. Ю. Советская экономика: экономика и экономическая политика СССР. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. 370 с.
- Атлас З. С. Денежное обращение в социалистическом хозяйстве // Плановое хозяйство. 1945. № 1. С. 56–72.
- Белостоцкий В. В. Правовое положение частного капитала // Частный капитал в народном хозяйстве СССР: материалы комиссии ВСНХ СССР. М., 1927. С. 293–299.
- Берхин И. Экономическая политика Советского государства в первые годы Советской власти. М.: Наука, 1970. 239 с.
- Гухман Б. В. К вопросам денежного обращения // Бюллетни Госплана. Информационный журнал. 1923. № 8-9. С. 47–54.
- Дьяченко В. Советские финансы в первой фазе развития Советского государства. М.: Госфиниздат, 1947. 220 с.
- Калмановский А. А. Динамика основного капитала промышленности СССР // Плановое хозяйство. 1926. № 4. С. 140–159.
- Кашарский В. Л. Индустриализация хозяйства и задачи кредита в СССР // Плановое хозяйство. 1928. № 9. С. 127–145.
- Киселев С. М. Денежное обращение и эмиссионные возможности // Бюллетни Госплана. Информационный журнал. 1923. Вып. 1. № 10. С. 66–84.
- Киселев С. М. Оценка текущего состояния денежного обращения // Плановое хозяйство. 1926. № 6. С. 38–51.
- Козлов Г. Г. К вопросу о природе денег и денежного обращения в СССР // Плановое хозяйство. 1929. № 8. С. 114–138.
- Куперман О. И. Динамика обобществленной и необобществленной промышленности в СССР в 1923/1926 гг. // Плановое хозяйство. 1926. № 2. С. 121–136.
- Малышев А. И., Таранков В. И., Смиренный И. Н. Бумажные денежные знаки России и СССР. М.: Финансы и статистика, 1991. 496 c.
- Струмилин С. Г. К вопросу о денежной инфляции и дефляции // Плановое хозяйство. 1926. № 6. С. 7–21.
- Струмилин С. Г. К денежной реформе // Плановое хозяйство. 1924. № 3. С. 3–34; № 4–5. С. 10–25.
- Струмилин С. Г. Индустриализация СССР и эпигоны народничества // Плановое хозяйство. 1927. № 6. С. 7–33; № 8. С. 7–35.
- Шайдуллин Р. Крестьянские хозяйства Татарстана: проблемы и пути их развития в 1920–1928 гг. Казань: Фән, 2000. 222 с.