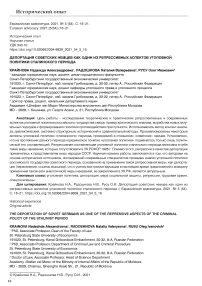Депортация советских немцев как один из репрессивных аспектов уголовной политики сталинского периода
Автор: Крайнова Надежда Александровна, Радошнова Наталия Валерьевна, Русу Олег Иванович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 5 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - исследование теоретических и практических ретроспективных и современных аспектов уголовной политики российского государства сквозь призму критического анализа, выработка новых актуальных подходов к формированию политики противодействия преступности. Использовались метод контент-анализа, диалектический, системно-структурный, исторический и сравнительный методы. Проанализированы некоторые аспекты уголовной политики «сталинского» периода, проводимой в отношении «советских» немцев. Установлено, что на протяжении данного периода юридическое понятие «уголовная политика» подменялось только лишь политической его составляющей. Репрессивная составляющая уголовной политики сталинского периода включала в себя такие виды наказания, которые отсутствовали в УК РСФСР 1926 г. Помимо этого, репрессии в качестве депортации применялись к представителям иных народов СССР. Научная новизна работы заключается в том, что авторами на основе исторических источников, исследований современных специалистов проведен анализ уголовной политики российского государства советского периода, основанной на применении такой репрессивной меры, как депортация (переселение, ссылка, высылка), что с учетом все громче звучащих в настоящее время предложений к возврату применения такой (или аналогичной) меры наказания, ее закрепления в УК РФ, является актуальным.
Уголовная политика, депортация, мера социальной защиты, репрессии, трудовая армия, спецпоселенцы
Короткий адрес: https://sciup.org/140262184
IDR: 140262184 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_54_5_16
Текст научной статьи Депортация советских немцев как один из репрессивных аспектов уголовной политики сталинского периода
Об уголовной политике государства, содержательном наполнении данного понятия давно и много говорится в научной литературе. Однако следует отметить, что до настоящего времени не существует единообразного понимания содержания этого термина. В самом общем виде уголовную политику можно определить как генеральную линию государства, определяющую основные направления противодействия преступности. Уголовная политика государства подвижна, можно проследить определенные корреляции уголовной политики и социально-экономических показателей в различные периоды развития государственности, взаимосвязь между целями реализации уголовной политики и выполнением определенных государственных задач. Некоторые периоды развития государственности сквозь призму реализации уголовной политики представляют особый интерес ввиду значимости принимаемых политических решений, использования уголовно-правовых инструментов для решения стоящих перед государством задач. К таким периодам относится ранний «послереволюционный» период существования СССР.
После революции 1917 г. уголовная политика государства основывалась на построении общества новой формации, которое виделось большевикам как новое рабоче-крестьянское государство, строящееся под руководством партии большевиков. Для достижения этой цели постреволюционная уголовная политика стала включать в себя неограниченное государственное принуждение по отношению ко всем его гражданам во имя великой цели построения светлого будущего. Следует с определенной долей уверенности констатировать, что уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 гг. были основаны по большей части на этом поли- тическом постулате, хотя сам термин «политическая преступность» в уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926 гг. отсутствовал. Однако существовала ст. 58, предусматривающая уголовную ответственность за контрреволюционные преступления, широкое толкование диспозиции которой успешно замещало отсутствие термина «политическая преступность» в УК РСФСР 1926 гг. и позволяло сделать её одной из самых применяемых на практике статей данного УК. Так образовались только две категории осужденных: «уголовники» и политические заключенные. Заметим, что эта тенденция реализовалась и в УК РСФСР 1960 г., более уточненная формулировка статьи которого содержала указание на «некоторые государственные преступления, совершенные по антисоветским мотивам» [1].
Анализ тенденций реализации уголовной политики в «сталинский» период позволяет согласиться с утверждением некоторых исследователей о том, что уголовная политика стала полностью отождествляться с внутренней политикой государства [2, с. 11]. Одной из наиболее репрессивных составляющих уголовной политики данного периода стало выселение и переселение целых народов – репрессии и депортация советских немцев, крымских татар, греков, карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и др. Таким способом правящая партия пыталась решить одну из главных политических задач того периода времени – принудительную изоляцию от общества потенциальной «пятой колонны», которая могла бы быть задействована в поддержке и оказании помощи немецко-фашистским оккупантам. Отметим здесь и экономическую составляющую: посредством переселения народов предпринималась попытка заселить малозаселенные или вообще не заселенные территории обширной страны, достичь цели индустриализации.
Еще в 1935 году 172 тысяч корейцев были выселены с Дальнего Востока в Среднюю Азию, в основном в Узбекистан и Казахстан. В 1939 году 65 тысяч поляков были депортированы из Западной Украины в Казахстан [3, с. 398]. До этого депортации подверглись финны-ингерманладцы. Таким образом, депортация представителей каждого из перечисляемых народов представляла собой одну из страниц истории СССР, связанную с попыткой разрешения с помощью репрессий тех или иных политических и экономических вопросов.
Необходимо отметить, что уголовное законодательство того периода закрепляло положения теории опасного состояния, согласно которой акценты переносились с деяния на деятеля, общественной опасностью наделялось лицо, представляющее угрозу, прежде всего, для государства. Так, в статье 7 УК РСФСР 1926 года было закреплено положение о том, что к лицу «по своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности применяются меры социальной защиты судебно-исправительного, медицинского либо медико-педагогического характера» [4].
В перечне мер социальной защиты в п. «ж» ст. 20 УК РСФСР 1926 года указана такая мера, как «удаление из пределов РСФСР или из пределов отдельной местности с обязательным поселением в других местностях или без этого, или с запрещением проживания в отдельных местностях либо без такого запрещения» [5]. Таким образом, нами приведены уголовно-правовые основания для привлечения к уголовной ответственности и высылке отдельных лиц, перечисленных в УК РСФСР 1926 г.
Интерес представляет вопрос, на основании каких нормативных актов происходила депортация народов на практике. Этот вопрос мы постараемся рассмотреть на примере принудительного переселения советских немцев, основная депортация которых состоялась 26 августа 1941 года, т. е. 60 лет назад.
Согласно данным переписи населения 1939 года, в СССР проживали около полутора миллиона немцев. Это были переселенцы из европейских стран, в основном из Германии, а также из Голландии, Швейцарии, Дании, Швеции, исторические называемые в России как «немцы» [6, с. 7].
Первый этап депортации немцев произошел в 1932–33 гг. под лозунгом «проявления революционной бдительности» [6, с. 31]. Из Украины в 18
Карелию были высланы 1200 немецких семей. Они получили статус «трудпоселенцев» и были лишены свободы выбора места жительства. Причем высылка проводилась именно по национальному принципу, а не по принадлежности к кулакам и т. п. В начале 1935 года из Украины в Сибирь были высланы еще 8300 немецких семей. В 1936 году из Украины в Казахстан были высланы 15 тыс. немецких и польских семей [6, с. 32].
Наверное, самым абсурдным, но от того и наиболее трагичным делом, связанным с обезвреживанием агентов гестапо, стало «Дело глухонемых» 1937 года. В этом году в Ленинграде были арестованы десятки глухонемых-инвалидов, 34 человека из которых были расстреляны, а 19 осуждены к 10 годам лишения свободы. Основанием для репрессий послужило то, что у инвалида по слуху и политэмигранта из Германии Альберта Блюма были обнаружены 5 изображений Адольфа Гитлера. Такие портреты вкладывались в качестве агитационных открыток в пачки с сигаретами, которые Блюм захватил с собой при отъезде. По версии следователей, Блюм внедрился в среду советских глухонемых и основал из них подпольную фашистскую организацию. Расстрелянные инвалиды были реабилитированы в 1955 году [7]. В 2008 году в Левашовской пустоши на мемориальном кладбище жертв политических репрессий установлен кенотаф, где изображены две ладони с растопыренными пальцами, которые на языке жестов означают просьбу о помощи.
Перед самой войной из Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в Сибирь и Казахстан были высланы 480 тыс. советских немцев [8, с. 31]. Накануне вторжения гитлеровской Германии в СССР на действительной военной службе находилось, по приблизительным данным, около 65 тыс. немцев [6, с. 32]. С первых дней начала войны на основании директивы № 002367 предписывалось убирать военнослужащих, не внушающих доверие [6, с. 32]. Выведение военнослужащих происходило без каких-либо объяснений. По данным НКВД СССР за 1949 г., число бойцов, ранее служивших в Красной Армии, составляло 64 644 советских немца [6, с. 33]. Уволенные из рядов Красной Армии отправлялись в дисциплинарные батальоны «трудовой армии» – в Воркуту, Котлас, Кемерово, Челябинск и другие отдаленные районы. Правовой статус бойцов «трудовой армии» определялся тем, что они отделялись как от местного населения, так и от заключенных, размещались в зонах, отгороженных колючей проволокой, под военизированной охраной и снабжались по нормам ГУЛАГа.
26 августа 1941 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», в котором утверждалось, что «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немцев Поволжья имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны производить взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья» [6, с. 32]. То есть практически все граждане немецкой национальности были безосновательно обвинены в пособничестве врагу и репрессированы. В ходе переселения советских немцев в отдаленные местности у них изымалась вся общественная и личная собственность. Изгнанное население также принудительно мобилизовывалось в «трудовую армию».
В 1940-е годы эта форма организации труда существовала для граждан, не годных к военной службе, и женщин от 18 до 25 лет. Позже, после окончания войны, трудармейцы переводились в статус «спецпоселенцев». Трудовые колонны и отряды действовали на основании положений воинского устава со всеми соответствующими требованиями, в том числе жестким выполнением производственных норм. И они, как правило, создавались из представителей репрессированных народов, в том числе, советских немцев.
Все постановления и приказы по депортации репрессированных издавались под грифом «секретно», и доступ к ним исследователи получили только в 90-е годы ХХ века [6, с. 33].
С сентября 1941 года по октябрь 1942 года из районов южной и центральной России, Ленинграда и Ленинградской области было выслано примерно 1 209 430 человек, при том, как нами указывалось ранее, общее количество советских немцев составляло около полутора миллионов человек. Именно тогда был сослан в Красноярск и отец О.Ф. Берггольц – Ф.Х. Берггольц, врач по профессии, причем он с другими немцами был отправлен в ссылку в одном поезде с заключенными [8, с. 215].
В героической обороне Брестской крепости участвовали командир 125-го стрелкового полка майор А.Э. Дулькайт, Г. Киллинг, Э. Милляр, Э. Дамм, лейтенанты Кролл и Шмидт, военный врач В. Вебер, подполковник медицинской службы Э. Кролль, подполковник Г. Шмидт, А. Героцг, А. Герман, Г. Рединг, Н. Кюнс, В. Майер [8, с. 12]. В сражавшихся частях Красной Армии и даже в лагерях советских военнопленных многим советским немцам, чтобы спасти их в одном случае от отправки в тыл, в другом – от расправы гитлеров- цев, писари давали русские имена и фамилии [9, с. 10].
В конце октября 1942 года немецкий контингент спецпоселенцев количеством около 41 тысяч человек был направлен на реки Лену и Яну, на Колыму и в северные районы озера Байкал [9]. По свидетельствам историков, в контингент «трудмо-билизованных» вливались и демобилизованные немцы из Красной Армии. Тяжелейшие условия пребывания обрекли 118 тысяч советских немцев на вымирание и преждевременную смерть [6, с. 37].
10 января 1942 года Государственный комитет обороны принял Постановление № 1123 «О порядке использования немцев-спецпереселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет» (под грифом «совершенно секретно»), в котором были изложены правила переезда мобилизованных, их поведения, обязанности. Неявка и уклонение карались высшей мерой наказания. При максимальном напряжении физических сил, в условиях подневольного труда, при скудном продовольствии, остром дефиците медикаментов, обуви и одежды немцы, как и другие репрессированные народы, были обязаны выполнять норму планового задания, разработанного экономическими отделами НКВД специально для тех, кто подпадал под статус депортированных и мобилизованных в трудовые колонны [6, с. 34].
Несмотря на такое отношение власти к советским немцам, за время Великой Отечественной войны 19 военнослужащих-немцев были представлены к высокому званию Герой Советского Союза [6, с. 10]. Но многие советские немцы расплатились жизнью за свою национальность, как Г.Э. Лангемак. В 1919 году он был командиром 4-го дивизиона артиллерии Кронштадской крепости, а затем комендантом форта «Тотлебен». В 1928 году окончил Военно-техническую академию и занялся разработкой реактивных снарядов. Именно разработанные Г.Э. Лангемаком снаряды стали основой реактивного миномета «Катюша» и сыграли огромную роль в победе над фашистской Германией. Причем термин «космонавтика» в научный оборот тоже ввел Г.Э. Лангемак, переписывавшийся с основоположником русской космонавтики К.Э. Циолковским. 11 ноября 1937 года он был арестован как немецкий шпион. Вместе с ним были арестованы будущие российские академики В.П. Глушко и С.П. Королев. 11 января 1938 года Г.Э. Лангемак как немецкий шпион был приговорен к высшей мере наказания, которая в тот же день была приведена в исполнение.
21 ноября 1955 года Г.Э. Лангемак был полностью реабилитирован, а 21 июля 1991 года Указом Президента СССР М.С. Горбачева ему посмертно присвоено звание Героя Социалистического Труда [6, с. 12–13].
После Великой Победы «трудармейцы» были взяты на учет в спецкомендатурах и оставались прикрепленными к тем предприятиям, на которых они работали, с правом поселения вне лагерной зоны и правом выписки к себе семей. «Трудармейцы» привлекались к уголовной ответственности за побеги из мест своего поселения [6, с. 37].
Среди обучающихся юридического факультета СПбГЭУ есть правнуки этнических немцев, сосланных в годы войны в Сибирь. При проведении настоящего исследования авторы обращались к ним с просьбой о проведении опроса родственников об этом периоде. Обучающиеся, опросив родственников, честно признались, что их близкие, как могли, пытались избавиться от отметки в паспорте «национальность – немец». Женщины брали фамилии мужей, мужья – жен, дети становились русскими. И до настоящего времени старшее поколение не хочет или не в силах вспоминать кошмар депортации.
Следует отметить, что оснований для обвинения советских немцев в измене Родине в период Великой Отечественной войны в большинстве случаев не существовало, и их депортация происходила только по национальному признаку. Никакими уголовно-правовыми нормами депортация народов в СССР не регулировалась, и репрессивные меры в рассматриваемом аспекте носили квазиправовой характер, что косвенно подтверждается секретностью документов, на основании которых проводилась депортация. Во внутренних документах НКВД использовался такой термин, как «административная высылка», практиковавшийся в царской России, но отсутствовавший в уголовном праве советского периода. В тот период времени это было нормой. В качестве еще одного примера применения наказания, отсутствующего в УК РСФСР 1926 г., можем привести «каторжные работы», к исполнению которых стали приговариваться виновные с 1943 года [10], но сам Указ не был опубликован.
При жизни И.В. Сталина было официально объявлено только о депортации чеченцев и крымских татар; хотя эти народы были высланы в 1944 году, краткая заметка об этом событии в газете «Известия» появилась только в июне 1946 г. [11, с. 429]. Заметим, что после депортации народов с географических карт исчезали названия населен- ных пунктов и административных образований, большинство депортированных народов были исключены из официальных документов и даже из «Большой советской энциклопедии». Была упразднена и Автономная республика немцев Поволжья. Уничтожались кладбища, переименовывались города и села, из книг по истории изымались имена представителей сосланных народов [11, с. 432].
Для объективного изложения рассматриваемых событий обратимся к работам современных авторов, которые приводят данные по советским немцам, ставшим коллаборационистами и запятнавшим себя сотрудничеством с фашистами. Планы нацистских спецслужб по созданию в СССР опоры для проведения разведывательной и подрывной деятельности в целом были сорваны. Как отмечается в книге голландского историка Луи де Йонга «Немецкая «пятая колонна» во Второй мировой войне», в СССР «германские органы разведки в 1930-е – 1940-е годы не смогли опереться на помощь немецкого национального меньшинства… Среди обнаруженных германских архивных документов… нет ни одного, который позволял бы сделать вывод о том, что между Третьим рейхом и немцами, проживающими на Днепре, у Черного моря, на Дону или в Поволжье, существовали какие-либо заговорщицкие связи» [12, с. 161].
Также, согласно рассекреченным данным архива УКГБ–УФСБ по Саратовской области, контрразведывательным отделом этого управления не велось (с января до марта 1941 г.) ни одного дела по «немецкому шпионажу» [12, с. 162].
Общеизвестны сведения о массовом пленении советских солдат в первые месяцы войны. Но анализ более чем 360 «фильтрационных дел» из архивов ФСБ военнопленных из числа советских немцев Поволжья показал, что только в 9 случаях (около 2,5 %) сдача в плен осуществлялась намеренно, во всех остальных пленение произошло по не зависящим от самих военнослужащих обстоятельствам. Кроме того, несмотря на выделение пленных этнических немцев в «привилегированную» категорию, большинство из них отказывалось от сотрудничества с гитлеровцами, в результате чего следовало выдворение в концентрационные лагеря [12, с. 162]. Таким образом, не существует документального подтверждения сотрудничества советских немцев с немецко-фашистскими оккупантами.
В завершение исследования отметим, что весь советский народ в период Великой Отечественной войны и сражался, и трудился во имя Побе- ды, но у репрессированных народов осознание патриотизма и чувство гордости за свой труд были отняты, поскольку репрессивная составляющая уголовной политики сталинского периода лишила своих депортированных граждан элементарного человеческого достоинства. Тем не менее, практически поголовная депортация немецкого населения в Сибирь и Казахстан была не в состоянии убить веру людей в справедливость. Они продолжали в новых, еще более тяжелых условиях выполнять свой патриотический и гражданский долг, что и было признано, но с опозданием в 20 лет, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года. Как отмечается в литературе, в действительности в годы Великой Отечественной войны подавляющее большинство немецкого населения вместе со всем советским народом способствовало Победе Советского Союза над фашистской Германией» [12, с. 38]. С данным утверждением трудно не согласиться.
Список литературы Депортация советских немцев как один из репрессивных аспектов уголовной политики сталинского периода
- УК РСФСР 1960 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009.
- Лурье Л.Я., Маляров Л.И. Лаврентий Берия. Кровавый прагматик. СПб.: БХВ-Петербург, 2015.
- Ст. 7 УК РСФСР 1926 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-информационной системы «КонсультантПлюс».
- Ст. 20 УК РСФСР 1926 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-информационной системы «КонсультантПлюс».
- Вклад репрессированных народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: монография / под ред. Б.Б. Бормангаева. Т. 1. Элиста: НПП Джангар, 2010.
- За что в 1937 году в Ленинграде расстреляли 34 инвалида? [Электронный ресурс]. URL: http://www.masterok.livejournal.com.
- Громова Н.А. Смерти не было и нет: Ольга Берггольц: опыт прочтения судьбы. М.: АСТ, 2020.
- Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) № 1732 «О развитии прибрежного лова рыбы в Белом и Баренцевом морях», «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-информационной системы «КонсультантПлюс».
- Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-информационной системы «КонсультантПлюс».
- Эпплбаум Э. ГУЛАГ / пер. с англ. Л. Мотылева. М.: АСТ, CORPUS, 2011.
- Бердинских В., Веремьев В. Краткая история ГУЛАГа. М.: Ломоносовъ, 2019.