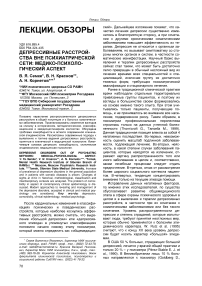Депрессивные расстройства вне психиатрической сети: медико-психологический аспект
Автор: Семке Валентин Яковлевич, Краснов Валерий Николаевич, Корнетов Александр Николаевич
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Лекции. Обзоры
Статья в выпуске: 4 (55), 2009 года.
Бесплатный доступ
Показано нарастание распространенности депрессивных расстройств в общей популяции и у больных соматическими заболеваниями. Проанализированы изменения взглядов на клинику в историческом, методологическом, классификационном и междисциплинарном контекстах. Обсуждена проблема коморбидности в аспекте современной клинической эпидемиологии. Рассмотрены современные подходы к выявлению и тактике ведения депрессивных расстройств, принятые в клинической и медицинской психологии.
Депрессия, коморбидность, клиническая эпидемиология, медицинская психология
Короткий адрес: https://sciup.org/14295347
IDR: 14295347 | УДК: 616.895.4
Текст научной статьи Депрессивные расстройства вне психиатрической сети: медико-психологический аспект
-
* НИИ психического здоровья СО РАМН
634014, Томск, ул. Алеутская, 4
-
* *ФГУ Московский НИИ психиатрии Росздрава 107258, Москва, ул. Потешная, 3
-
* **ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава
634050, Томск, Московский тракт, 2
Показано нарастание распространенности депрессивных расстройств в общей популяции и у больных соматическими заболеваниями. Проанализированы изменения взглядов на клинику в историческом, методологическом, классификационном и междисциплинарном контекстах. Обсуждена проблема коморбидности в аспекте современной клинической эпидемиологии. Рассмотрены современные подходы к выявлению и тактике ведения депрессивных расстройств, принятые в клинической и медицинской психологии. Ключевые слова : депрессия, коморбидность, клиническая эпидемиология, медицинская психология.
DEPRESSIVE DISORDERS OUT OF PSYCHIATRIC NETWORK: MEDICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECT. V. Ya. Semke*, V. N. Krasnov**, A. N. Kornetov***. *Tomsk, Mental Health Research Institute of Siberian Branch of RAMSci. ** Moscow, Moscow Psychiatric Research Institute. ***Tomsk, Siberian State Medical University. Increase of prevalence of depressive disorders in the general population and in patients with somatic diseases is shown. Changes of sights at clinic in historical, methodological, classification and interdisciplinary contexts are analyzed. The problem of comorbidity in aspect of contemporary clinical epidemiology is discussed. Modern approaches to revealing and management of the depressive disorders, accepted in clinical and medical psychology are considered. Key words : depression, comorbidity, clinical epidemiology, medical psychology.
После кардинальных изменений в классификациях психических и поведенческих расстройств, которые наиболее коснулись аффективных расстройств, можно считать, что выделение «большой депрессии» или «депрессивного эпизода» в упомянутых классификациях положило начало новому этапу психиатрии, который можно определить как «общемедицин- ский». Дальнейшее изложение покажет, что качество лечения депрессии существенно изменилось в благоприятную сторону, а при сочетании с другими хроническими соматическими заболеваниям повышает эффективность их терапии. Депрессия не относится к органным заболеваниям, но вызывает симптоматику со стороны многих органов и систем, в частности соматические манифестации. Научный базис выявления и терапии депрессивных расстройств сейчас стал таким, что может быть достаточно легко превращен в обычный несложный вид их лечения врачами всех специальностей и специализаций, исключая группу их достаточно тяжелых форм, требующих психиатрической квалификации и стационарного лечения.
Ранее в традиционной клинической практике врачи наблюдали отдельные территориально привязанные группы пациентов, и поэтому их взгляды в большинстве своем формировались на основе именно такого опыта. При этом учитывались только пациенты, получающие помощь, и не принималось во внимание все население, подверженное риску. Таким образом, в психиатрии профессиональная перспектива строилась только на данных учтенной болезненности (Thornicroft G., Tansella M., 1999). Данная традиционная позиция влекла за собой 4 негативных последствия. Во-первых, невозможность оценить масштаб подлинной заболеваемости, подлежащей лечению. Во-вторых, неясность, в какой степени случаи заболеваний пациентов, которые находятся на излечении, отражают картину распространенности того или иного заболевания в целом и, соответственно, каким лечебным процессам следует отдать предпочтение. В-третьих, отказ от рассмотрения более широкого социального контекста пациентов. В-четвертых, тенденция концентрировать внимание только на текущем эпизоде помощи.
Исправление данных негативных факторов, по мнению этих исследователей, по существу обусловливает развитие общемедицинского этапа в сфере охраны психического здоровья в целом и в выявлении и терапии депрессивных расстройств, в частности при их сочетании с соматическими заболеваниями или без такого сочетания. Уровень распространенности депрессии и степень страданий, которые испытывают люди, требуют принятия неотложных мер, которые обычно применяются к болезням эпидемического характера. W. Rutz et al. (1995) считают, что к концу XX века уровень депрессии будет носить характер «большой» эпидемии.
В США 50 % больных, страдающих большой депрессией, лечатся у врачей общей практики и только 20 % – у психиатра (Pérez-Stable E. J. et al., 1990). В Великобритании лишь 10 % больных направляются к психиатру (Goldberg D.,
1992). Имеются также данные, что менее 5 % пациентов с депрессией оказываются в поле зрения психиатров (Madianos M., Stefanis C., 1992). Эти цифры показывают, что в целом депрессивные расстройства являются общемедицинской проблемой, поэтому работы, проводимые психиатрами многих стран по обучению навыкам диагностики депрессии врачей первичной медицинской сети, имеют ведущие приоритеты в здравоохранении. Врачи первичной медицинской помощи нуждаются в подходе, в котором скрининг депрессии и ее диагноз занимали до недавнего времени минимальное количество времени. B. C. Montano (1994) приводит следующие примеры и рекомендации. Из 20—30 больных, которых может принять врач в день, у 1/3 имеются депрессивные симптомы, 2—3 из них клинически имеют большую депрессию. Семейный врач всегда измеряет кровяное давление, но не проводит скрининг депрессии, хотя она также часта, как гипертензия. Эти тесты не обременительны. Больной может заполнять анкету в кабинете или в смотровой комнате. Второе положение заключается в том, что каждый новый больной должен быть скри-нирован вне зависимости от соматических жалоб, которые не ассоциируются с депрессией. В этой тактике важное место занимает профилактика суицида за счет лечения его потенциальных жертв.
Анализ суицидальности в России показал запредельные показатели в сравнении с 49 европейскими странами. У мужчин РФ в 2003 г. распространенность суицидов находилась на втором месте после Литвы – 58,3 на 100 тыс. населения, у женщин – на шестом, составляя 9,5 на 100 тыс. (Levi E. et al., 2003). Как известно, суициды при депрессии, помимо генетической связи, определяются рядом общих психосоциальных факторов: безработица, низкий образовательный уровень, низкооплачиваемая работа, нестабильное социально-психологическое положение, фрустрация базовых потребностей, увеличение частоты утрат и др. (Bille-Brahe U., 1998). Прежде чем перейти к вопросу о частоте встречаемости депрессивных пациентов общемедицинской сети, укажем на распространенность аффективных расстройств в общем населении.
Наиболее крупное мультицентровое международное исследование, выполненное в течение 1 месяца, показывает среднюю распространенность депрессии в США, Англии (Лондон), Австралии (Канберра), Греции (Афины), Шотландии (Эдинбург), которая составляет в среднем 5,8 % в населении (Üstün T. B., Sartorius N., 1993). К этому можно присоединить эпидемиологические данные, выполненные сотрудниками отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья СО РАМН (Россия,
Томск). Исследовано 1 000 человек в Томске в течение 1 месяца. Результат составил 6,5 %, что отвечает разбросу по популяционному риску депрессии в других городах и странах мира. Например, Лондон – 7 %, Канберра – 4,8 % и т. д. Учитывая то, что соотношение в опрошенной томской популяции депрессия по скринингу у женщин и мужчин соответствовала соотношению 2 к 1, можно сказать, что эти данные носят значимый характер (Kornetov N. A., Schastny E. D., 2000).
По данным одного из крупнейших эпидемиологических исследований (Epidemiologic Catchment Area) Национального института психического здоровья США, 9,5 % населения страны старше 18 лет за 1 год перенесли аффективное расстройство (Regier D. A. et al., 1993). В другом эпидемиологическом исследовании («Исследование коморбидности населения») отмечалось, что за 1 год распространенность расстройств настроения среди жителей США составляла 11,3 % (Kessler R. C. et al., 1994). В Европе распространенность большой депрессии доходит до 7 % (Wittchen H. U. et al., 1994).
На современном этапе можно выделить в обобщенном виде следующие взгляды психиатров и клинических психологов, которые оценивают депрессию как крайне распространенное и тяжелое заболевание и подчеркивают разные тонкости в характеристике депрессивного расстройства: депрессия является одной из самых распространенных, инвалидизирую-щих с высокой ценой терапии хронических проблем здоровья, наблюдаемых в первичной помощи (Kessler R. C. et al., 1994); депрессия является высоко распространенным психическим расстройством с хроническим или рецидивирующим течением (Katon W., Sulliven M. D., 1990); депрессия возникает у индивидов в любом возрасте (Dunner D., 1994); по бремени болезни депрессия опережает все психические расстройства, а по прогнозу развития эта муль-тифакториальная патология к 2020 г. выйдет на второе место после ишемической болезни сердца (Murray J. L., Lopez A. D., 1996); из всех психических расстройств с нетрудоспособностью, которые охватывают до 30,8 % случаев, депрессия приводит к инвалидности и составляет 12 % (Смулевич А. Б., 2003); депрессивные расстройства являются наиболее частым состоянием в учреждениях первичной медицинской сети и составляют более 10 % (Üstün T. B., Sartorius N., 1995); среди пациентов с соматическими заболеваниями частота депрессии составляет от 22 до 33 % для всех пациентов общесоматического стационара.
Этот разброс характеризует разную частоту для определенных заболеваний (Katon W., Sul-liven M. D., 1990); депрессивные симптомы и расстройства характерны для соматических заболеваний, встречаются чаще, чем в популяции, усугубляют течение соматического заболевания, ускоряют смертность и являются фактором риска суицида (Beck A. T. et al., 1993); депрессивные расстройства, развивающиеся вместе с соматическим заболеванием, неизбежно влекут за собой рост психосоциальной дезадаптации больного и часто препятствуют достижению эффективности реабилитации и лечения (Смулевич А. Б., 2003); депрессию у соматически больных можно и нужно лечить, когда бы не был поставлен диагноз, отсроченное лечение ухудшает прогноз как соматического заболевания, так и депрессивного расстройства (ВПА/ПТД, 2002); депрессия серьезно влияет на качество жизни и адаптационные возможности пациента, что может привести к временной нетрудоспособности и инвалидности (Краснов В. Н., 2000); врачами часто предписываются неадекватные дозы трициклических антидепрессантов, которые не влияют на депрессию, а увеличивают риск суицида (Regier D. A. et al., 1988); образ родителей у больных депрессией характеризуется негативностью и амбивалентностью отношений, что затрудняет возможности семейной поддержки в терапии (Полкунова Е. В., Холмогорова А. Б., 2004).
Исходя из представленных данных, отчетливо видны научные обобщения авторитетных исследователей на увеличивающееся число депрессивных расстройств. Для российского современного развития общественного здравоохранения и становления практической деятельности психиатров с подготовкой к выходу из «стен» старого уклада быта и жизни лиц, страдающих психическими расстройствами, необходимы новые формы подготовки специалистов-психиатров, которые были бы заинтересованы в своей внутренней «реформе» пациентов с последующей проекцией на внешние изменения подходов к терапии, тактике ведения пациентов в различных медицинских условиях. Для клинических психологов и социальных работников проблема изучения депрессии, условий ее формирования, совершенствования психологических методов интервенции и социальной поддержки является одной из самых актуальных задач настоящего времени. Данное направление, которое подразумевает тактику ведения и лечения психических расстройств в рамках первичной медицинской помощи, изложено в Докладе о состоянии здравоохранения в мире (2001). В нем подробно рассматриваются различные вопросы оказания услуг и планирования профилактики психических расстройств, из которых вытекают несколько далеко идущих рекомендаций, которые могут быть приспособлены для конкретных условий региона.
К этому следует добавить, что высокая распространенность депрессии как медицинской проблемы и осознание невозможности ни одной психиатрической службой в мире справиться с ее лечением, заставили на фоне реформ оказания помощи в сфере охраны психического здоровья искать новые модели их превентивной и лечебной тактики. Как показали данные программы «Выявление и лечение депрессий в первичной медицинской сети», лечение непсихотических депрессий может осуществляться в медицинских учреждениях общего типа. Терапия депрессий вне традиционных психиатрических служб оказывается возможной в силу появления в последние годы новой генерации антидепрессантов, применение которых не связано с выраженными побочными эффектами. Они позволяют проводить амбулаторное лечение пациентов без риска снижения социального функционирования, в том числе и при обычной профессиональной деятельности (Краснов В. Н., 2000). Появление нового похода к терапии расстройств депрессивного спектра позволит расширить психологические, социальные, этические способы влияния на пациентов. В свою очередь, возникает значительный интерес многих исследователей к организации моделей помощи для врачей общей практики в лечении депрессии. Заинтересованность клинических психологов может базироваться на изучении условий формирования, психодиагностики, разработке стандартов психологического консультирования и терапии. Социальные работники занимаются разработкой методов для интеграции этих пациентов в общество на основе реформирования системы здравоохранения. Так или иначе депрессивное расстройство может оказаться общей моделью движения в реформировании психиатрических служб по линии децентрализации и дифференциации.
Биопсихосоциальная модель помощи при психических расстройствах значительно шире традиционной психиатрической модели «психиатрическая больница – психиатрический диспансер», в которой зачастую психическое расстройство рассматривается только на уровне мозговых нарушений без представления о личности человека и контекстуальных факторов, которые сопровождают расстройство (Холмогорова А. Б. и др., 2003). Поэтому особенности разработки помощи при депрессивных расстройствах в первичной медицинской сети, стационарах соматического профиля, санаторно-курортной сети не могут быть только сферой деятельности психиатрии биомедицинского типа.
L. Eisenberg (1984) подчеркивал, что стратегия лечения настоятельно требует от врача выявить источники возникших проблем дискомфорта и сбоя функций у больного и, если это возможно, достичь согласия с пациентом относительно их значимости, указать набор имеющихся средств и предоставить помощь в проти- востоянии тому, что не поддается исправлению. Для этого недостаточно одних лишь биомедицинских знаний. Взаимодействие врача и пациента должно осуществляться в соответствии с принципами социальных наук (Дубов-ская Л. Н., 1999). К этому следует добавить, что такой подход, учитывая задачи медицинской психологии, определяет одно из направлений в тактике профилактики и терапии депрессивных расстройств, а именно взаимоотношения в системах «врач – больной», «клинический психолог – пациент». В таких системах на первый план выходит проблема личности и межличностного взаимодействия. Она затрагивает как технологию лечебно-диагностического процесса, так и исследование личности больного.
Данный вопрос тесно сопряжен с изучением клинической динамики депрессии и дифференцировкой состояний напряжения психической адаптации (психоадаптационные состояния – ПАС) и срыва психического приспособления (психодезадаптационные состояния – ПДАС). Хотя данный синкретный подход разработан в основном для пограничных психических расстройств, его широкое применение во многих современных исследованиях (Семке В. Я., Аксенов М. М., 1996) позволяет использовать и при изучении депрессии в русле валеопсихоло-гической парадигмы (Семке В. Я., 1995). По существу, данная проблема одними клиническими психологами понимается как основная часть медицинской психологии (Ташлыков В. А., 1984), другие рассматривают ее как важное направление раздела клинической психологии (Абрамова Г. С., Юдчиц Ю. А., 1998). Рассмотрим обе позиции.
Первая точка зрения определяется Б. Д. Карвасарским (2002), указывающим, что предметом научных исследований клинической психологии и психиатрии являются психические расстройства, а клиническая психология, кроме того, занимается также психическими аспектами соматических расстройств. При соматических заболеваниях симптомы и признаки психических нарушений могут иметь как клинический, так и субсиндромальный, подпороговый характер. При этом они даже в небольшой выраженности способны усиливать ухудшение социального функционирования и качество жизни (Spitzer R. L. et al., 1995) при текущих соматических заболеваниях.
Вторая позиция вытекает непосредственно из стандарта образования по специальности «Клиническая психология» (2000). В нем подчеркивается, что деятельность клинического психолога направлена на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей человека. Например, при неожиданных утратах или фрустрациях психологический анализ их условий формирования и психологическая ин- тервенция имеют большое значение для профилактики развития клинических состояний (Семке В. Я., 1999). Также трудно представить себе психологическую реабилитацию без участия клинического психолога. Эти положения носят принципиальный характер и крайне важны, поскольку выявление и терапия депрессии вне психиатрических учреждений требует разработки специальной методологии и методов клинической психологии практически, а не теоретически, чтобы клинический психолог мог быть равноправным партнером в междисциплинарной бригаде специалистов.
Это крайне важно, учитывая высокую распространенность депрессии у пациентов соматических стационаров (Смулевич А. Б., 2003). Поэтому есть все основания для разработки мер совмещенной превенции, тактики ведения и совместного рассмотрения этих болезней в гуманитарном и экономическом контекстах. В последние годы подсчитано, что у 50 % кардиологических больных выявляются депрессивные расстройства (Akhtar M. S. et al., 2004). Важным моментом также является осознание многими психиатрами и кардиологами того, что депрессивные расстройства могут участвовать в развитии сердечно-сосудистой патологии и утяжелять ее течение (Ромасенко Л. В., 2004).
Общий вывод относительно частоты сочетания депрессивного расстройства и хронического соматического заболевания заключается в следующем. Депрессия не является реакцией на соматическое заболевание, а наблюдающиеся утрата энергичности, ангедония, нарушение сна или угнетение, тревога не являются симптомами соматического заболевания (Montano B. C., 1994).
В отношении развития проблемы сочетания депрессивных расстройств/нарушений (субсин-дромальные проявления) и хронических соматических заболеваний ключевую роль в понимании сыграла клиническая эпидемиология и показала значимость коморбидности, полимор-бидности в новых показателях здоровья (GBD – глобальное выражение болезни, DALY – количественное выражение бремени болезни, YLL – годы жизни, потерянные в связи с преждевременной смертностью, YLD – количество лет, потерянных в связи с нетрудоспособностью).
Однако медицинские специализации достаточно резко разъединены в клиническом практическом плане. К тому же медицинская психология остается пока еще не в полной мере востребованной и понятой по своим возможностям и уровням помощи больным в системе общественного здравоохранения. Если подытожить ограничение медицины в данном вопросе, то одной из крупных проблем этого ограничения является деперсонификация в системе «врач– больной». Обезличивание пациента в этих взаимоотношениях частично вытекает из аппаратно-технических приоритетов обследования, главным образом с практически отсутствующей подготовкой врачей в области интегративной антропологии и минимальной по медицинской психологии – комплексных наук о человеке, подразумевающих четкие представления о формах изменчивости человеческой индивидуальности и факторах, влияющих на эту изменчивость. Также медицинская психология и психотерапия до сих пор зачастую не опираются на классификацию психических и поведенческих расстройств и в большей степени пока преподаются в теоретическом плане по стандартам, требующим существенного обновления (Новиков А. М., 2000). В отечественной медицине деперсонификация в отношениях между врачом и пациентом во многом обязаны перманентному остаточному принципу финансирования здравоохранения и малоразвитой личностноориентированной культуре медицины. Технократические установки в медицине можно рассматривать как систему, преследующую цель подчинения выполнения койко-дней, числа лабораторных исследований, количеству принятых больных, а не качеству их лечения, здоровья человека, его автономии, независимости и возможности выбора лучшей терапии. То есть преобладает валовой экстенсивный подход к терапии больных на фоне остаточного финансирования.
Еще в середине XX века крупнейший психолог С. Л. Рубинштейн (1957) писал, что из учения о действительности, бытии выпадает человек. В свою очередь, крупнейшие клиницисты классического периода всегда подчеркивали тесные взаимосвязи и непременное понимание соматопсихической целостности, общего видения больного, который не был бы закрыт модой или фетишами признаков болезни (Kraepelin E., 1913; Kretschmer E., 1921). Поскольку данная работа посвящена различным аспектам депрессии вне психиатрической сети здесь уместно привести острый взгляд на отношения врача и пациента. Данный вопрос современен, поскольку высказывания С. Цвейга (1992) относится именно к медицинской психологии, которая должна внести существенный нелекарственный подход в терапию человеческой личности: «Научная медицина рассматривает больного с его болезнью как объект и отводит ему, почти презрительно, абсолютно пассивную роль; ему ни о чем не спрашивать и ни о чем не говорить; все что он должен делать – это послушно и даже без единой мысли следовать предписаниям и по возможности выключить себя самого из процесса пользования. В этом слове «пользование» ключ ко всему. В то время как в научной медицине больного «пользуют» в качестве объекта, метод душевного врачева- ния требует от больного, прежде всего, чтобы он сам пользовался душой, что он как субъект, как носитель и главный исполнитель врачевания проявил максимум возможной для него борьбы с болезнью… Новые научные дисциплины – учение о типах, учение о наследственности, психоанализ, индивидуальная психология – пытаются вновь выдвинуть на первый план как раз не родовое в человеке, а изначальное единство каждой личности…» (c. 9—10, 11).
Таким образом, для современного развития общественного здравоохранения в России и становления практической деятельности клинических психологов, психотерапевтов, социальных работников проблема изучения депрессии, условий ее формирования и психологических методов интервенции является одной из самых актуальных задач настоящего времени. Данное направление, которое подразумевает тактику ведения и лечения психических расстройств в рамках не только традиционной психиатрической помощи, но и вне психиатрической сети.