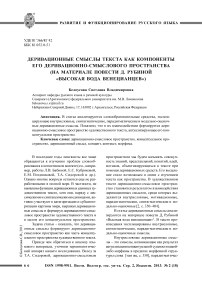Деривационные смыслы текста как компоненты его деривационно-смыслового пространства (на материале повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев»)
Автор: Белоусова Светлана Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (18), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются словообразовательные средства, эксплицирующие внутрисловные, синтагматические, парадигматические и модально-оценочные деривационные смыслы. Показано, что в их взаимодействии формируется деривационно-смысловое пространство художественного текста, актуализирующее его концептуальное пространство.
Деривационно-смысловое пространство, концептуальное пространство, деривационный смысл, концепт, контекст, морфема
Короткий адрес: https://sciup.org/14969722
IDR: 14969722 | УДК: 81'366/81'42
Текст научной статьи Деривационные смыслы текста как компоненты его деривационно-смыслового пространства (на материале повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев»)
В последние годы лингвисты все чаще обращаются к изучению проблем словообразования в когнитивном аспекте (см., например, работы Л.В. Бабиной, Е.С. Кубряковой, Е.М. Поздняковой, Т.А. Сидоровой и др.). Однако многие вопросы остаются еще не разработанными в полной мере. В частности, не выявлены функции деривационных единиц в художественном тексте, хотя они, наряду с лексическими и синтаксическими единицами, активно участвуют в категоризации и субкатегоризации картины мира, выражая деривационные смыслы и формируя деривационно-смысловое пространство художественного текста и в целом его концептуальное пространство.
Задача статьи – показать, что деривационные смыслы формируют деривационносмысловое пространство как часть концептуального пространства художественного текста.
Прежде чем обратиться к анализу языкового материала, уточним терминологический аппарат нашего исследования. Вслед за Т.А. Сидоровой, деривационно-смысловым пространством мы будем называть совокупность знаний, представлений, понятий, идей, мотивов, объективирующихся в тексте при помощи деривационных средств. Его выделение стало возможным в связи с изучением текста как пространства. В художественном тексте деривационно-смысловое пространство становится результатом взаимодействия деривационных смыслов, среди которых выделяются внутрисловные, мотивационные, парадигматические, синтагматические и модально-оценочные [2, с. 350–404].
В статье деривационные смыслы анализируются на материале повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев»1. В тексте произведения эксплицированы внутрисловные, синтагматические, парадигматические и модально-оценочные смыслы.
Внутрисловные деривационные смыслы – это смыслы, возникающие как результат актуализации концептуальной сущности какой-либо морфемы в пределах морфемной структуры слова [там же, с. 350], парадигматичес- кие – смыслы, объективируемые текстовыми деривационными парадигмами [2, с. 379], синтагматические – смыслы, актуализируемые посредством синтагматических связей производных [там же, с. 389], модально-оценочные – дополнительные смыслы, возникающие на базе внутрисловных, мотивационных, парадигматических, синтагматических смыслов в виде различных структур знаний: модальных и/или оценочных пропозиций, пресуппозиций, образов, представлений, коннотаций, идей [там же, с. 404].
Выявить мотивационные деривационные смыслы в рамках отдельно взятой повести не представляется возможным, поскольку такие смыслы характерны для произведения крупной жанровой формы (например, романа) или нескольких произведений.
Важную роль в повести играют внутрисловные деривационные смыслы , которые являются одним из средств раскрытия основного мотива повести – мотива обреченности. Так, префиксы не только реализуют свое языковое значение, но и приобретают новое, участвующее в репрезентации смысла всей повести.
Узнав о своем смертельном заболевании, главный герой повести доктор Лурье отправляется в Венецию. Мир для нее делится на «до» и «после» сообщения о результатах обследования. Она ощущает некую отстраненность от реального мира. Приехав в Венецию, доктор Лурье ищет гостиницу «Аль Анжело», в которой для нее забронирован номер: Но за входной дверью оказался небольшой грязноватый холл, проходной , – во всяком случае, мимо то и дело проскакивали официанты из ресторана… (с. 21).
Благодаря контекстуальному уточнению мимо усиливается языковое значение префикса про- и актуализируется новый, эстетически значимый смысл ‘продвигаться мимо, то есть минуя кого-, что-либо, не обращая на него внимания’, который связан с основным мотивом повести. Несмотря на то что гостиница «Аль Анжело» находится в центре города, на площади Святого Марка, она противопоставлена в сознании героини большому шумному ресторану с неоновой вывеской, тем самым передается внутреннее состояние доктора Лурье: чувство одиночества, ощущение, что жизнь проходит мимо. С помощью словообразовательного средства создается мотивационный фон психологического пространства героини.
В реализации идеи безысходности важную роль играет префикс без- ( бес- ), передающий не только узуальные значения, но и приобретающий новые смыслы. Именно в Венеции к героине приходит предчувствие неотвратимой гибели: Вся же огромная площадь была залита мутной, подернутой рябью водой, и это было страшно – как будто уже пришла беда, окончательная, бесповоротная , и вот лагуна заглатывает навеки, пожирает свое бесценное дитя… (с. 53). Как видно из приведенного примера, под влиянием контекста префикс бес- в производном бесповоротная передает значение ‘доведенный до конца, неизбежный’, связанное с основным мотивом повести. Бесповоротная беда – значит, что у героини нет возможности избежать ее, свернуть с уже определенного пути.
Префикс без- ( бес- ) также объективирует значение ‘постоянство’, но оно не связано с постоянством жизни и ее торжеством. Это постоянство гнетущих воспоминаний, душевной боли. Так, фонари на набережной являются видимым воплощением бесконечной печали (с. 44) , а город настойчиво напоминает о самых тяжелых мгновениях жизни доктора Лурье, о гибели брата: И опять ей показалось, что кто-то позаботился об этом неотвязном, бесконечно томительном свидании с покойным братом и ведет, и волоком тащит ее по мучительному маршруту с известным, никаким помилованием не от-менимым пунктом назначения… (с. 45). Бесконечная печаль – это печаль, не имеющая границ, вечная. Таким образом, префикс помогают передать мотив обреченности, связанный и с виной перед умершим братом. Производные с приставкой без- ( бес- ) становятся в произведении репрезентантами концепта «смерть» и оказывают влияние на эмоциональное восприятие повести.
Мотив обреченности раскрывается и при помощи префиксов из- и под- , вступающих благодаря контексту в антонимические отношения: Нет, нет, все вздор! Сотни людей излечиваются . Ну, не излечиваются –
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ тебе ли не знать! – под… подлечиваются . Во всяком случае, еще какое-то количество лет живут дальше, работают, любят, путешествуют (с. 14). Префикс из- передает значение ‘интенсивно совершить действие’ (Ефремова, т. 1, с. 570), а префикс под- – ‘совершить действие с незначительной интенсивностью’ (Там же, т. 2, с. 138): не полностью выздороветь, а лишь на некоторое время восстановить здоровье, продлить жизнь.
Важным для реализации основного мотива повести является употребление однокоренных глаголов с синонимичными приставками. Ср.: Она сидела в своей привычной позе: лодыжка согнутой левой ноги на колене правой. Дурацкая студенческая поза, пора изживать , доктор Лурье. Да ничего уже не пора… из-жи-вать . Ибо вот, ты прожила свою жизнь, так и не сменив потертых джинсов на что-то поприличнее. Доктор Лурье (с. 13); Это Миша доживал последние дни – дни неведения (с. 41); Она уезжала на катере в аэропорт…. Надо было дожить отпущенное ей время, как доживал этот город – щедро, на людях. В трудах и веселье (с. 70). Префиксы про- , из- , до- в приведенных выше примерах имеют значение ‘довести до какого-то предела, до границы’, актуализируя парадигматические связи – отношения синонимии, и в сочетании с корневой морфемой -жи- объективируют мотив обреченности и концепт «смерть», детерминированный концептом «жизнь».
Внутрисловные деривационные смыслы формируют в повести временные отношения. У героини осталось не так много времени, поэтому она ощущает быстротечность уходящей жизни, город же, несмотря на свою обреченность, простоит еще долго и может позволить себе «жить не спеша». Ср.: А она уже вцепилась в эти так сладко звучащие имена, уже поплыла им навстречу, уже поверила, что все будет хорошо сейчас, немедленно и навсегда (с. 15); В переулках за площадью толпа не поредела, а шла плотным медленным косяком, как рыбья стая (с. 20); Ей вдруг страшно, немедленно захотелось туда, как будто там ждало спасение (с. 31). Когда описывается состояние доктора Лурье, автор использует производные с префиксом не-, который, нейтрализуя значение корневой морфемы -медл-, актуализирует сему ‘тотчас, быстро’. Так передаются и особенности русского национального сознания, максимализм, широко представленный в фольклоре (вспомним, как герои сказок, стукнувшись оземь, тут же превращались, выздоравливали, делались молодыми и т. п.). Деривационные смыслы помогают передать сходство судеб героини и города. Доктор Лурье начинает подчиняться законам времени, царящим в Венеции, она становится частью города: Медленно допивая большой бокал домашнего вина… она смотрела, как в романском окне второго этажа дома напротив показался старик и… медленно закрыл обшарпанный солнцем ставень (с. 37). В приведенном контексте наблюдается субъективация восприятия времени.
Идея быстротечности времени воплощается в образе японских туристов, прибывших в Венецию: За те считанные минуты, что она в восхитительном островном одиночестве шаталась по площади перед церковью, к плавучей пристани дважды причаливал вапоретто, привезший только парочку японских студентов. Впрочем, студенты, упругим шагом обойдя площадь и примыкающую к ней улицу-набережную, достали путеводитель и быстро друг другу из него что-то вычитали , улыбаясь и любознательно поглядывая на статуи святых в нишах фасада. После чего отбыли на втором вапоретто – понеслись далее осматривать достопримечательности. Просто у японцев, она слышала, короткие отпуска и каникулы, а мир так велик, и так много в нем городов, соборов, статуй и картин, которые нужно осмотреть … (с. 32). Префиксы вы- , по- , о- в производных вычитали , поглядывая , осматривать актуализируют значение ‘совершить действие в течение небольшого периода времени’, которое усиливается контекстуальным уточнением быстро, короткие отпуска , понеслись далее . Японские туристы не прочитали что-то в путеводителе, так как для этого потребовалось бы больше времени, а вычитали лишь то, что им необходимо в данный момент. Возникает новый эстетически значимый смысл – мотив ‘поверхностности восприятия жизни’.
Оппозицию ‘временность, быстротечность человеческой жизни’ и ‘бесконечность, постоянство, вневременность жизни города’ реализуют синтагматические деривационные смыслы . Сложные производные с начальной частью еже- указывают как на быстроту происходящего в Венеции: все ежесекундно под этим солнцем менялось (с. 27); Крыши еще были залиты солнцем, стены домов с облетевшей штукатуркой, с островками обнаженной красно-кирпичной кладки – все это ежесекундно менялось, таяло, дрожало в стеклянной воде канала (с. 38), так и на некое постоянство, систематичность происходящего: У себя в номере она налила в стакан немного граппы, выпила залпом, неторопливо переоделась в сухое и, приоткрыв окно, стала ждать ежевечернего колокольного перезвона (с. 50). Доктор Лурье, стоя у окна гостиницы, замечает мгновенные изменения, происходящие в городе, ведь не зря она чувствует свое с ним сходство. Однако город живет по своим законам, которым свойственна стабильность, постоянство.
В формировании мотива обреченности в повести Д. Рубиной участвуют парадигматические деривационные смыслы . Для его реализации автор обращается и к общекультурным смыслам. В сознании многих читателей Венеция – двуликий город, «город-оксюморон, траурный праздник, смесь веселья и трагизма» [3, с. 43]. Именно эта двойственная природа города отражает душевные переживания доктора Лурье. В повести «Высокая вода венецианцев» не просто создается портрет Венеции, а через восприятие этого города отражается внутреннее состояние героини.
Мотив праздника, надежды передается благодаря производным с корнями:
-
- искр- : искрометные витрины (с. 20); фиолетово-зеленые искры (с. 26); искристая лагуна (с. 31); и вот оттуда, из-за домов, со стороны заходящего солнца на воду лег бирюзовый язык света, в котором на искрящейся , шкворчащей сковороде жарилась синяя плоскодонка (с. 37); у искристой кромки канала (с. 38);
-
- свет-//-свещ- : в этом театрально освещенном светом лиловых фонарей сумеречном мире (с. 18); под колоннады, мягко и театрально освещенные холодным светом фонаре (с. 19); трапе-
- ция солнечного света (с. 26); портики уже были освещены солнцем (с. 30); Зажглась лампа, тускло осветив картину (с. 33); Несмотря на близкие сумерки, воздух посветлел (с. 57);
-
- сия-: в среде мягкого утреннего сияния (с. 31); в сияющем контражуре утра (с. 31); По лагуне было разлито кипящее золото утра, и пар поднимался от воды к белому сияющему горизонту (с. 70).
Производные с названными корневыми морфемами часто встречаются в повести и формируют корреляционную парадигму, образуя единое морфемное смысловое поле с ядерной семой ‘светлый, радостный’. Корень -свет- , наряду с корнем -искр- , концептуализирует состояние духовной наполненности героини как противоположность пустоте. Перечисленные производные репрезентируют концепт «свет», являющийся в произведении одним из базовых, формирующих концептуальное текстовое пространство.
В антонимические отношения с этой парадигмой вступают производные с корнем -темн- : из открытых дверей полутемного бара (с. 20); вдоль огромных темных арок (с. 20); укутанные ярким даже в темноте пледом (с. 24); Они там и висели, в темноте , ничего было не разглядеть (с. 33); В темноте она потянулась к телефону (с. 69) . Данные однокоренные слова не только характеризуют окружающую обстановку, но и отражают внутреннее состояние героини. В Венеции доктор Лурье видит сон: Внезапно короткая и острая вспышка ужаса опалила ее: она поняла, что уже умерла, и самым верным доказательством было то, что она забыла, как Миша смеется. Ей так и намекали какие-то темные люди, она во сне называла их служителями… Ей говорили, что отныне она будет женой Антоши, – но он же мне брат! – с ужасом возражала она, – ничего-ничего, это раньше он был брат, а теперь, когда вы оба очистились, вы можете стать мужем и женой… (с. 69). Темные люди – это не просто люди в темных одеждах, но и неизвестные люди, пугающие, наводящие страх. Наличие в контексте слова ужас позволяет сблизить по семантике производные с корнем -темн- и -страш- // -страх- . Ср.: Она подошла к краю, туда, где каменные ступени так страшно и так обыденно уходили в воду… (с. 32); Все
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ эти несколько секунд она следила за ним, чувствуя страшное физическое напряжение (с. 43); И так же как с площади ушла вода лагуны, смятение и страх , весь день гнавшие ее по хлипким мосткам с одной улочки на другую, ушли, оставив в этот последний вечер мужественное смирение, чуткую тишину души (с. 57); Она даже отшатнулась от страшной волны отчаяния, ярости и жалобной тоски (с. 59). Корень -темн- актуализирует мотив хаоса (в отличие от корня -свет- , актуализирующего мотив гармонии), поэтому концепт «свет» коррелирует с концептами «тьма» и «страх», которые находятся в причинно-следственных отношениях.
Доктор Лурье ощущает сходство своей судьбы с судьбой города, неизбежность гибели, приближение надвигающейся беды. Ощущение сходства передается производными с корнем -обреч- , которые также формируют корреляционную парадигму: За эти несколько минут изматывающего, окликающего ее зова колоколов она все поняла: этот город, с душою мужественной и женской, был так же обречен, как и она… (с. 51); И блеск, и радость единственной в мире площади, и лиловый шлейф ее фонарей, и узкие, как турецкие туфли, гондолы, и фанфары старинных печных труб – все обречено , твердила она себе, обречено , обречено … (с. 51 – 52); И опять, как в первые минуты, ее настиг соблазн: ступить – с причала, с набережной, с подоконника, – уйти бесшумно и глубоко в воды лагуны, опуститься на дно, слиться с этим обреченным , как сама она, городом, побрататься с Венецией смертью… (с. 52); Бежать из этого обреченного города, свою связь с которым она чувствует почти физически (с. 56). Корреляционная парадигма становится репрезентантом концепта «смерть».
Предчувствие смерти усиливают и производные с корнями -гиб-, -пуг-: Бежать, думала она, бежать из этого города с его призраками, с высокой водой, способной поглотить все своей темной утробой, с его подновленными, но погибающими дворцами, с их треснутыми ребрами, стянутыми корсетом железных скоб… (с. 56); Вене- цианская маска, думала она, притягивает и отталкивает своей неподвижностью, фатальной окаменелостью черт. Как бы человек, но не человек – символ человека. Пугающая таинственность неестественной улыбки, застылое удивление. Иллюзия чувств. Иллюзия праздника. Иллюзия счастья (с. 55); И, вспоминая застылую улыбку напугавшей ее маски, она думала… (с. 57). Парадигматические деривационные смыслы помогают передать не только «двойственную» природу Венеции, но и отразить внутреннее состояние героини, теснейшим образом связанное с концептуальным пространством текста.
В формировании модально-оценочных смыслов в повести важную роль играют суффиксы субъективной оценки. Прибыв в Венецию, доктор Лурье испытывает радость, восторг. Это передается через ее видение города: Впереди, метрах в ста, круглился мостик под единственным, манерно изогнутым фонарем. Упираясь в здание гостиницы, канал затем уходил вправо, и там его гребешком седлал еще один мосток под двумя фонарями (с. 24); Мостик в воде колыхался люлькой, парил над небом – в воде… В мелких суетливых волнах скакал серпик месяца (с. 38); Так на одной из улочек в Санта-Кроче она наткнулась на витрину магазина масок и карнавальных костюмов (с. 54). Однако в дальнейшем она ощущает надвигающуюся опасность. Так, оказавшись в магазине масок и примерив несколько из них, она невольно ощутила неизбежность надвигающейся развязки: О, какой ужас сотряс все ее тело! Она задохнулась в душной личине небытия, закашлялась и, захлебываясь горловыми хрипами, стала срывать страшную маску с лица (с. 56). Благодаря префиксу за-изоструктурные глаголы и глагольные формы образуют градационную словообразовательную парадигму, передающую наивысшую точку эмоционального напряжения. Деривационный ряд актуализирует символический смысл маски, примеряемой героиней: она видит свое лицо без признаков жизни и понимает, что на ее месте находится чужое, поглотившее ее нечто, аноним… ничто (с. 56). Способность воздействовать на лю- дей – особое свойство любой маски. Например, дионисийская маска греческого театра внушала зрителям ощущение фатальности. Маски передают некое послание. Ношение маски – способ идентификации с тем, что она воплощает [1, с. 239–242]. Маска способна трансформировать личность.
Таким образом, анализ повести Д. Руби-ной «Высокая вода венецианцев» показал, что при помощи словообразовательных единиц формируются внутрисловные, синтагматические, парадигматические, модально-оценочные деривационные смыслы, которые не только взаимосвязаны в тексте, но и дополняют друг друга, помогают раскрыть мотив обреченности, являющийся основным в произведении. Результатом взаимодействия деривационных смыслов становится деривационно-смысловое пространство, актуализирующее концептуальное пространство художественного текста. Базовыми концептами, которые объективированы деривационными смыслами в данном тексте, являются «свет» и «тьма», «гармония» и «хаос», «жизнь» и «смерть».
Список литературы Деривационные смыслы текста как компоненты его деривационно-смыслового пространства (на материале повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев»)
- Жюльен, Н. Словарь символов/Н. Жюльен. -Челябинск: Урал LTD, 1999. -512 с.
- Сидорова, Т.А. Когнитивный аспект традиционных проблем словообразования и морфемики: монография/Т.А. Сидорова. -Архангельск: Солти, 2012. -480 с.
- Цивьян, Т.В. Семиотические путешествия/Т.В. Цивьян. -СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. -248 с.