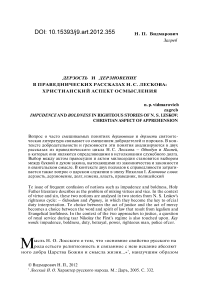Дерзость и дерзновение в праведнических рассказах Н. С. Лескова: христианский аспект осмысления
Автор: Видмарович Наталия Петровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.10, 2012 года.
Бесплатный доступ
Вопрос о часто смешиваемых понятиях дерзновения и дерзости святооте- ческая литература связывает со смешением добродетелей и пороков. В кон- тексте добродетельности и греховности эти понятия анализируются в двух рассказах из праведнического цикла Н. С. Лескова – Однодум и Пигмей, в которых они являются определяющими в истолковании служебного долга. Выбор между актом правосудия и актом милосердия становится выбором между буквой и духом закона, вытекающими из законничества и законности в евангельском смысле. В контексте двух подходов к справедливости затраги- вается также вопрос о царском служении в эпоху Николая I.
Дерзость, дерзновение, долг, измена, власть, праведник, полицейский
Короткий адрес: https://sciup.org/14748836
IDR: 14748836
Текст научной статьи Дерзость и дерзновение в праведнических рассказах Н. С. Лескова: христианский аспект осмысления
Te issue of frequent confusion of notions such as impudence and boldness, Holy Father literature describes as the problem of mixing virtues and vice. In the context of virtue and sin, these two notions are analysed in two stories from N. S. Leskov’s righteous cycle: – Odnodum and Pygmey , in which they become the key to ofcial duty interpretation. Te choice between the act of justice and the act of mercy becomes a choice between the word and spirit of law that result from legalism and Evangelical lawfulness. In the context of the two approaches to justice, a question of royal service during tsar Nikolay the First’s regime is also touched upon. Key words: impudence, boldness, duty, betrayal, power, righteous man, police ofcer.
ысль Н. О. Лосского о том, что «основное свойство русского на рода естьего религиозность и связанное с нею искание абсолют ного добра Царства Божия и смысла жизни…»1, наилучшим образом
-
1 Лосский Н. О. Характер русского народа. М.: Даръ, 2005. С. 332.
иллюстрируют герои многих произведений Н. С. Лескова. В уникальной галерее его образов во всей полноте отразилась способность писателя видеть в человеке то «трудноуловимое, мерцательное в смыслах»2, что точнее всего выражается определением «лесковский человек» – «чело век русской земли»3. Вслед за писателем можно сказать, что люди эти «удивительные и даже невероятные»4, порой окутанные легендарной молвой, выделяющиеся из окружения, но нередко неприметные в общей массе людских характеров. Однако они «становятся еще более неверо ятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте» (135–136).
«У нас не переводились, да и не переведутся праведные, – писал Н. С. Лес ков в рассказе “Кадетский монастырь”. – Их только не замечают, а если стать присматриваться – они есть» (46). Более того, они есть даже «из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее» (46). В нашем примере – из полицейских служащих, занимающих положение, в обыденном сознании не связывающееся с возможностью проявления акта христианского милосердия. И тем не менее герои Лескова не толь ко его проявляют, но и своей жизнью демонстрируют удивительный пример христианского отношения к служебному долгу, превращающего любую службу в служение, требующее подлинного дерзновения.
«Вопреки точному смыслу христианской веры, – пишет Е. Трубец кой, – которая требует, чтобы Бог для верующего был всем во всем , чтобы Ему подчинялись все сферы жизни – для государства устанавли вается исключение из этого общего правила. <…> …В области частной жизни человек признает для себя обязательными заповеди любви к Богу и к ближнему, но в области государственной он исповедует полное прак тическое безбожие и человеконенавистничество»5.
Такое разделение религиозного и гражданского начал отсутствует в жизни главных героев рассказов «Однодум» и «Пигмей»: уже сами названия указывают на очевидную неординарность их поведения по от ношению к окружению. В Солигаличе, например, где служит кварталь ным Александр Рыжов, действует неписаный и гибкий закон, толкуемый городничим словами поговорки «закон – что конь: куда надо – туда и во ротиего» (12). Но поскольку городничий, по понятиям того времени, яв лялся третьим лицом в государстве после императора и губернатора, то категорический отказ Рыжова, живущего по закону «в поте лица твоего ешь хлеб твой» (12), – брать взятки или, говоря чиновничьим языком, донимать «с тех, которые обращались к нему за чем нибудь «по каса ющемуся делу»» (11), выглядит не просто чудачеством или «масонской новостью», но и прямым уклонением от гражданских обязанностей. По сути противление Рыжова дерзости – обкрадыванию государствен ной казны – воспринимается должностными лицами Солигалича как дерзость в смысле отказа от общепринятой практики взяточничества.
Попытку нового квартального восстановить стершуюся границу между пониманием службы как долга или как источника получения мзды, при сохранении определенной видимости цельности жизни, обще ство Солигалича объясняет смешением им обязанностей монашеских с гражданскими. Объясняя этот феномен, чиновник в докладе к приехав шему в город генерал губернатору Ланскому укажет на чрезмерное ув лечение Рыжова Библией, которую «не всякому честь пристойно: в ино честве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается» (29).
Со Священным Писанием, как «лучшим и совершеннейшим спосо бом, которым Бог познается»6, «имевшим на него неодолимое влияние» (7), Рыжов действительно никогда не расставался, не только выверяя по нему свои собственные и чужие поступки, но и всю свою жизнь выстра ивая согласно библейским принципам: это в условиях постепенного на рушения единства жизни в Боге, а затем и нарождающегося безбожия в глазах общества не могло не звучать и вызовом, и дерзостью.
Не покидая родного Солигалича, Рыжов в совершенстве постига ет умение искать Бога там, где живет, как и сказал в свое время Тихон Задонский:
…тамо ищи, где находишися и живеши. Бог на всяком месте присутст вует, и нет такого места, где бы Бога не было; везде есть и вся исполняет7.
Потому и на полуугрозу генерала Ланского в конце рассказа, уязвлен ного слишком откровенным упреком Рыжова в отсутствии у генерала смирения, он отвечает:
Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы Бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме Его никого не страшно (32).
Сожаление , с которым он смотрит при этом на генерала (особо выде ленное в тексте Лесковым), – это искреннее сожаление о человеке, об леченном властью и одновременно страдающем ущербностью сознания ее духовной значимости.
Следует обратить внимание, что автор говорит об удовольствии , ко торое для Рыжова «состояло в исполнении своего долга» (18), посколь ку, как нам представляется, это слово здесь употребляется отнюдь не в значении «радости, довольства от приятных ощущений»8 или же того, «что вызывает, создает такое чувство»9, как приводят современные сло вари, но скорее в древнем значении «пригодности ( к какому-л. делу )»10. Это подтверждается и своеобразной самооценкой Рыжова, испросив шего место умершего квартального и позднее в разговоре с генералом Ланским заметившего, что иной должности для себя не желает, посколь ку эту никто лучше его не справит, очевидно, подразумевая полное со ответствие своему месту.
Смысл же пребывания на своем месте и делания своего дела оз начает для Рыжова исполнение воли Божьей, следование которой как раз и исключает поиски чести, славы, богатства и «прочиих угодий»11 (т. е. удовольствий в обычном значении слова), от чего необходимо «сердце испразднить, чтобы в нем место было Богу – вечному Добру с любовию Его святою» 12.
По этой причине знаменательное происшествие, представляющее центр повествования, в котором Рыжов оставил «по себе память геро ическую и почти баснословную» (20), имело для разных людей и разный смысл. В глазах большинства он возвысился благодаря неожиданному исходу своего отчаянного поступка, расцененного как неслыханная дерзость, которой, однако, он непонятным образом сумел привестиего превосходительство в благорасположение. И лишь для немногих Рыжов стал человеком, в первую очередь прославившим принципы христиан ского устроения жизни: это было отмечено и губернатором Ланским, который, в отличие от характеристики, даваемой Рыжову другими – «от чаянный», «такой некий этакой», «еретик», сказал: «…характер ваш по чтенен» (32). Не случайно ведь, как многозначительно замечает Лесков, ожидаемый сановник, «“имел сильный ум и надменную фигуру”, и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю» (19). Можно было в губер наторе видеть одну только «надменную фигуру» – и тогда все усилия снискатьее расположение сводились к «грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты» (21). Рыжов – единственный человек, который сумел за «надменной фигурой» прибывшего в город генерала увидеть как раз «сильный ум», подобно тому, как Ланской, отметив поначалу в Рыжове дерзость (непочтительность), впоследствии смог рассмотреть и дерзновение (бесстрашие и надеяние в смысле отсутствия безрассуд ного страха и полагание во всем на волю Божью13).
Это последнее, проявившееся у Рыжова и как смирение, позволи ло ему обрестиеще одну удивительную способность, также истолко ванную различно. В «Поучении в неделю о слепорожденном» Игнатий Брянчанинов, разъясняя слова Христа «На суд Аз в мир сей приидох, да невидящии видят, и видящии слепи будут» (Ин. 9:39), говорит, что «Видение гордых есть ужасная слепота; а невидение смиренных есть способность к видению Истины»14. Другими словами, смиренномудрие (невидение смиренных, духовная нищета) делает человека восприимчи вым к Богу. Эта восприимчивость, видение истины у Рыжова проявля ются в его способности, как он сам говорит, выводить по Библии, «что ясно следует» (31). Однако и этого генерал не сумел сразу понять, назвав умозаключения Рыжова «пророчествованием», само помышление о чем Рыжов посчитал бы невероятной дерзостью.
Пророчеством Григорий Богослов называет «проповедь о сокро венном»15. Слова же Лескова о принятии юным Рыжовым «посвящения» после того, как тот «дождался духа, давшего ему мысль самому сделать ся крепким, дабы устыдить крепчайших» (9), следует, на наш взгляд, понимать иначе. Выводить, т.е. давать оценку «любому волеизъявлению человека… через Святое Писание»16, и соответственно делать умоза ключения о поступках людей настоящего времени на основании уже состоявшейся оценки деяний ветхозаветных лиц17 было бы невозмож ным без той трезвости, которая, как многократно подчеркивает Лесков, отличала характер Рыжова. А ведь именно духовная трезвость, по заме чанию Зеньковского, высоко ценится «в религиозном сознании русских людей»18, будучи одинаково чуждающейся «как религиозной мечтатель ности, так и впадению в “прелесть” через власть воображения»19. Никого Рыжов не поучал на протяжении всего повествования, никому и никогда не сообщал своих взглядов, но, принося в церкви покаяние, в собствен ных размышлениях «отчитывался Единому, в Кого неизменно и крепко верил» (18). Все внимание сосредоточивает автор не на внешних собы тиях в жизни Рыжова, но на результатах проявления работы Духа, по казывая, как по мере глубины познания Бога возрастает и усердие в Его поисках и следовании Ему20. Его формирование как «полумистика, полу агитатора в библейском духе» (9), дышавшего «любовью и дерзновени ем» (9), способного «выводить», свидетельствует о том, что через букву Рыжов сумел проникнуться духом библейского слова, осознав, что все иные источники «не чисты и полны суемудрия» (32) – добавим: и потому дерзки. По сути, и весь план жизни Рыжова точно так же «выводим», ибо трагический исход тех, кто уклоняется от пути правды, раскрыт в проро чествах Исайи, которого так любил читать Рыжов, и пространная цитата из которого помещается в самом начале рассказа:
Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хощу. Не приходите явитися ми. <…> Егда прострете руки ваши ко мне, от вращу очи мои от вас, и аще умножите моления, – не услышу вас. Измыйтесь, отимите лукавство от душ ваших. Научитеся добро творити, и прииди те истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное – убелю их яко снег (Ис. 1:11–24)21.
Времена, описываемые Н. С. Лесковым в рассказе «Однодум», не столь отдаленные, характеризуются им тем не менее «глубоко провалившимися» (21), тем более что люди, «дочитавшиеся до Христа» и считавшиеся по общему суждению чудесящими, никому не вредными полуюродивыми, спустя несколько десятилетий получили иную оценку. Совершавшееся разрушение цельности жизни в Боге на фоне всеобщего «оффенбаховского настроения» (22), из перспективы уже лесковского времени, обнаруживало себя в «чрезмерном усилении в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия» (34). По крайней мере, так скажет повествователь в первых строках рассказа «Пигмей», доба вив, что «никто ничего не хочет сделать для человека, если не чает от этого себе выгоды» (34). Возможно, по этой причине чуть ли не проро ком видится несчастному французу, приговоренному к наказанию плеть ми, и главный герой «Пигмея», тоже полицейский служащий, движимый необъяснимым «здравому разуму» желанием помочь осужденному.
В рассказе нет сведений о жизни героя, кроме упоминания о нем как о мелкопоместном дворянине; ничего не говорится и о том, насколько следовал он библейским принципам в своей жизни в целом. Однако мы об этом можем делать вполне определенный вывод, поскольку «Решившийся жить, как следует, – по словам Феофана Затворника, – тотчас узнает дурное, в каком бы виде оно ни проявлялось»22. А по скольку «ведение дел – великая премудрость – дар Божий»23, герой достаточно быстро поддается мысли о необходимости вникнуть в дело осужденного. Со своей стороны и француз инстинктивно ощутил вос приимчивость полицейского чиновника к чужому страданию и, воз можно, понимание, что именно этот чиновник, несмотря на всю ни чтожность своего положения, способен к точно такому же «выведению» по Библии, «что следует», как и Рыжов, будучи движим вдохновением и любовью к ближнему. Но иное дело – быть на деле готовым в любых обстоятельствах сообразовывать свои поступки с евангельскими запо ведями и в частной, и в государственной жизни.
Кто воспламеняется любовию к Богу… ходя по земле, делает все так, как бы жил на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствия к подвигам добродетели24.
Такой человек, согласно рассуждениям Иоанна Златоуста, не испыты вает страха перед любыми житейскими невзгодами и проявляет бесстра шие, которое и является тем, что Отцы Церкви называют дерзновением:
Великое нам нужно тщание, чтобы знать, в чем состоит кротость и в чем дерзновение; тщание необходимо потому, что с этими добродетелями смеши ваются пороки, с дерзновением – дерзость, с кротостию – малодушие… Итак, что такое кротость и что малодушие? Когда мы, видя других оскорбленными, не защищаем их, а молчим, это – малодушие; когда же, сами получая оскор бления, терпим, это – кротость. Что такое дерзновение? Опять то же самое, т. е. когда мы ратоборствуем за других. А что дерзость? Когда мы стараемся мстить за самих себя. Таким образом великодушие и дерзновение на одной стороне, а дерзость и малодушие – на другой25.
Несомненно как дерзость восприняли губернатор и его окружение действия квартального Рыжова, осмелившегося в переполненном храме в присутствии всех чиновников и дворян города схватить губернатора Ланского за руку и во всеуслышание произнести: «Раб Божий Сергий! входи во храм Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, – вот как! С этим, – говорит далее Лесков, – он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навытяжку» (28). И неожиданно для ге нерала эта дерзость опровергнута одним из чиновников, указавшим ему, что на самом деле Рыжов: «Самый смирный: на шею ему старший сядь, – рассудит: “поэтому везть надо” – и повезет» (29). Еще большую, даже неслыханную дерзость при поверхностном взгляде проявляет ничтожный полицейский служащий, рискнувший вступиться за осу жденного иностранца француза, не православного, не имея, к тому же, кажется, никаких веских доказательств, и побуждаемый одним только внутренним голосом, явственно и настойчиво шептавшим ему: «…рас спроси его, расспроси, послушай, да заступись» (36). « Я задумал измену » (37), – говорит главный герой «Пигмея» о своем окончательном реше нии помочь, и, указывая на неоднозначность этих слов, автор выделяет их курсивом. Действительно, как могло быть воспринято обращение чиновника через посредника во французское посольство, в которое строжайшим образом был закрыт доступ служащим в полиции? В разгар обострения отношений России с Францией, за два года до их разрыва, последовавшего в 1854 г., намерение оспорить несправедливый приго вор вышестоящей власти, а в более широком контексте – императорской власти – могло расцениваться если не как измена, то по меньшей мере
Там же. С. 28.
как неповиновение властям. «Кто не повинуется начальнику, тот проти вится Богу, учредившему начальства»26, ибо «Бог вооружил начальников, дабы устрашали дерзких. Если бы не было совсем страха от начальников, до какого неистовства не дошли бы дерзкие люди?»27
Однако «закон положен не для праведника» (1Тим 1:9), а с другой стороны, «не соболезновать несправедливо страждущим, не гневаться на обижающих»28, исходя из буквы закона, есть «не добродетель, а порок, не кротость, а беспечность»29. Поэтому измена отечеству земному, хотя в данном случае и мнимая, не является изменой отечеству небесному. И знаком этого становится чувство героя, что он изменник и одновре менно осознание, что так Богу угодно (также выделенные в тексте кур сивом). С момента возникновения этой двойственности чиновник «уже словно не сам собою управлял» (37), а орудовало им какое то вдохно вение. Другими словами, измена, угодная Богу, явилась исходом коле бания между внешним и внутренним, человеческим и Божеским, закон ническим (фарисейским) и евангельским (милосердием), т. е. выбором пути дерзновения, поскольку « Любить человека значит воздавать честь Создателю»30 – и христианское дерзновение немыслимо без любви, вы ражающейся, как говорится в вышеприведенных словах пророка Исайи, не только в отказе от лукавства, но и в творении добра.
Заботой об оберегании царской власти объясняет свой дерзновен ный поступок квартальный Рыжов: «Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными» (32). Этим же в конечном итоге диктуется и поступок чиновника из «Пигмея», увенчавшийся успехом, поскольку за француза вступается сам император Николай I, отменяя несправед ливый приговор. Можно с уверенностью утверждать, что Государь мог бы отреагировать именно таким образом31. Это подтверждает хотя бы его речь, обращенная к депутатам петербургского дворянства 21 марта
1848 г., т.е. за четыре года до описанного события, в которой он, в част ности, заявил следующее:
Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия и поступки, какие он заметит32.
А как следует из речи императора далее, это необходимо было пере дать «всем и каждому»33. Чиновник из «Пигмея» как раз и являет собой случай человека, осмелившегося или, точнее сказать, дерзнувшего (!) косвенно указать императору на совершающуюся несправедливость.
Знаком богоугодностиего поступка стало то, что, вернувшись домой и приняв известие об отмене наказания, чиновник ощутил в душе наряду со страхом еще и благодать: «…чего буду за мою измену удостоен, но и за беднягу французишку нарадоваться не могу» (41). Впоследствии, после кончины императора, он приходил ночью плакать у его гроба и свое «благодарю» сказывать «за то, про что мы с ним двое только из всех рус ских знали: он, мой царь, да я, – его изменник» (42). И слово «изменник», написанное уже без курсива, сигнализирует о новом значении, обретен ном им в контексте поступка героя: оно указывает на результат его из менения. В «Однодуме» оно прочитывается во фрагментах биографии Рыжова, как внутренний духовный рост, мужание, работа Духа, скрытая от читателя, но доступная ему в источнике этого возрастания – Библии. В «Пигмее» явлен плод этого совершившегося возрастания через со вершившееся соединение того, о разъединении чего так сетовал Лесков в «Однодуме» – христианского долга и долга служебного.
И в заключение, возвращаясь к определению героев как праведни ков, приведем несколько цитат из Ветхого и Нового Заветов, которые приоткрывают глубокий смысл той правды, следование которой ведет человека к спасению.
Блажени алчущие и жаждущие правды: яко тии насытятся (Мф. 5, 6); Блажени изгнани правды ради: яко тех есть царствие небесное (Мф. 5, 10); верова же Авраам Богови, и вменися ему в правду (Рим. 4, 3); Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду свою (Пс. 97, 2); И правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его (Пс. 102, 18).
Правда как живая вода, о которой Христос говорил и самарянке, дав шей ему напиться из колодца; за правду страдают и гибнут, она ненави дима грешниками, но пострадавшие за нее обретут блаженство вечной жизни; Господь являет народам Свою правду, и только Ее они должны знать. Но есть и правда человеческая, искажающая правду Христову. Следовать же правде Христа, идя праведническим путем в надежде быть оправданным, значит, полагаться не на собственные умствования, но всецело предаваться Солнцу правды, как именуется Христос во мно гих тропарях двунадесятых праздников. Это и делают герои Лескова, не смущаясь тем, что православие одного из них считают сомнительным, а слезы умиления другого, получившего по прошествии многих лет ми лостыню из рук дочери несчастного француза, спасенного им от нака зания, воспринимают как чудачество заезжего иностранца.
Но важно отметить, что и в этой последней сцене, равно как и в разго воре Рыжова с генералом Ланским, раскрывается глубинный смысл дерз новения: «…послушание одного становится началом общего исцеления»34: помня о милосердии, благодарный француз взлелеял его и в сердцах других. Не остается равнодушным и генерал Ланской, в сердце которого были задеты тончайшие глубокие струны: награда Рыжову «откликнулась» и «напророченной» Рыжовым наградой самому генералу, вне всякого сомнения сумевшему воспользоваться ею самым благородным образом35.
Повествование о безымянном полицейском чиновнике автор завер шает восклицанием:
Как же за эти незаслуженные ощущения Бога хоть слезою не поблаго дарить! (46).
И в этих словах героя нет ни самолюбования, ни самодовольства, ни умиления собой, но смирение и кротость, через которые также проявля ется дерзновение к Богу. «Кротостьесть признак великой силы, – пишет Иоанн Златоуст, – чтоб быть кротким, для этого нужно иметь благород ную, мужественную и весьма высокую душу»36; «…будем помнить, что такое… кротость и малодушие, что дерзновение и дерзость, дабы, раз личая их друг от друга, мы могли благоугодно Господу провести насто ящую жизнь и сподобиться будущих благ»37.
Список литературы Дерзость и дерзновение в праведнических рассказах Н. С. Лескова: христианский аспект осмысления
- Лосский Н. О. Характер русского народа. М.: Даръ, 2005. С. 332.
- История русской литературы XIX века.: В 3 ч./Ред. В. И. Коровин. М.: Владос, 2005. Ч. 3 (1870-1890 годы). С. 434.
- Лесков Н. С. Несмертельный Голован//Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. С. 135
- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни//Трубецкой Е. Н. Избранные произведения. Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 297.
- Святитель Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое. Правило веры. М., 2003. С. 777.
- Словарь русского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1984. Т. 4. С. 469.
- Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. С. 370.
- Святитель Тихон Задонский Сокровище духовное, от мира собираемое. С. 771.
- Грамматика Церковно-славянского языка. Конспект. Упражнения. Словарь. СПб.: Библиополис, 2007. С. 201.
- Св. Игнатий Брянчанинов. Поучение в неделю о слепорожденном [Элекрон-ный ресурс] URL: http://azbyka.ru/dictionary/17/bryanchaninov_o_samomnenii_i_ smirennomudrii-all.shtml
- Григорий Богослов. Собрание творений: В 2 т. Минск: Харвест; М.: АСТ. Т. II. С. 379.
- жанков А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI -первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. М., 2008. С. 332.
- Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2001. С. 43.
- Святитель Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое. С. 774.
- Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора/Сост. прот. Алексий Бобров//Правило веры. М., 2003. С. 381.
- Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня града Зла-тоустаго Избранные творения. Собрание поучений. Общество любителей православной литературы. Киев: Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2006. Кн. 1. С. 226.
- Григорий Богослов. Собрание творений. С 377.
- Император Николай Первый. М.: Русский мир, 2002. С. 283.
- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. С. 241.
- Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня града Зла-тоустаго Избранные творения. Собрание поучений. С. 28.