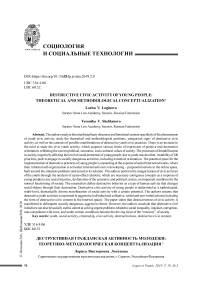Деструктивная гражданская активность молодежи: теоретико-методологическая концептуализация
Автор: Логинова Лариса Викторовна, Щебланова Вероника Вячеславовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ междисциплинарного дискурса и функционально-содержательной специфики феномена гражданской активности молодежи, исследуются теоретико-методологические позиции, категориальные признаки деструктивной гражданской активности, а также контексты возможных проявлений деструктивности в молодежных гражданских практиках. Отмечается возрастание необходимости исследования гражданской молодежной активности, обретающей различные формы выражения позитивной и деструктивной направленности, отражающей актуальные политические, экономические, социокультурные ценностные доминанты общества. Процессы дестабилизации в обществе, отрицательно влияющие на уровень социальной защищенности молодежи, в силу юношеского максимализма, неустойчивости смысложизненных приоритетов, подталкивают к вовлечению в общественно опасную деятельность, в том числе экстремистской направленности. Потенциальное пространство реализации деструктивных практик молодежи расширяется за счет социальных интернет-сетей, где активизируется их неформальная самоорганизация. Развивается интернет-активизм - целенаправленные действия в online-пространстве, строящиеся вокруг ситуации-проблемы и направленные на ее решение. Осуществлена категоризация гражданского активизма молодежи через анализ причинно-следственных связей, необходимых сопредельных понятий, как ответной реакции молодых людей на какую-либо социальную несправедливость, дисфункции экономической и политической системы, важное условие нормального функционирования социума. Деструктивное поведение определено как вид активности человека, изменяющей социальные объекты путем их разрушения. Деструктивная гражданская активность молодежи понимается как сложно организованное, многоуровневое, тематически разнообразное проявление социальной активности с определенным потенциалом. Деструктивный молодежный активизм выражается в агрессивных индивидуальных и коллективных, вербальных и невербальных действиях (в том числе в форме деструктивного гражданского контента в интернет-пространстве). Деструктивность гражданской активности проявляется в делинквентных общественно опасных, агрессивных формах. Но деструктивные гражданские инициативы могут быть и общественно полезными, направленными на решение актуальных проблем, связанных с социальным неравенством, несправедливостью, коррупцией, несоблюдением законов, а при определенных условиях стать движущей силой «оздоровления» социума.
Молодежь, социальная активность, гражданственность, гражданская активность, деструктивность, деструктивный гражданский контент
Короткий адрес: https://sciup.org/149130443
IDR: 149130443 | УДК: 316.4.06 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2019.2.9
Текст научной статьи Деструктивная гражданская активность молодежи: теоретико-методологическая концептуализация
DOI:
В обстоятельствах трансформирующейся политики многополярного мира в державную политику перераспределения сил между несколькими полюсами, в условиях глобализирующихся угроз и опасностей, изучение гражданской активности молодежи (позитивной и деструктивной направленности) является актуальным, необходимым для современного российского социума. Генезис поднимаемой проблемы определяется развитием процессов дестабилизации в обществе, конфликтности, отрицательно влияющими на уровень социальной, материальной защищенности молодежи, на ее социально-политическую социализацию. Данные процессы выступают факторами, обусловливающими и усиливающими беззащитность жизненно важных интересов молодого поколения от рисков генерирования дисбаланса и социально-политической напряженности в силу юношеского максимализма, неустойчивости смысложизненных приоритетов, подталкивающими молодежь на вовлечение в общественно опасную деструктивную (асоциальную, агрессивную) деятельность, в том числе экстремистской направленности.
Актуальность анализа деструктивной гражданской активности молодежи подтверждают и статистические данные российских исследовательских центров, демонстрирующие накапливающееся в российском обществе социальное напряжение и неудовлетворенность. Опрос ФОМ о протестных настроениях россиян (январь 2019; N = 3 000) показал, что 70 % россиян за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. При этом 54 % опрошенных признались, что действия властей за последнее время вызывали «недовольство и воз- мущение» у них лично. Оба показателя заметно выросли по сравнению с декабрем 2018 года [Недовольство властями web].
Согласно результатам всероссийского опроса «Левада-Центра» (ноябрь 2018; N = 1 600) молодые люди в возрасте 18–24 лет активнее представителей других возрастных когорт заявили о своей готовности включаться в работу социально-политических организаций [Гражданская активность web]. Высокая готовность россиян участвовать в различных инициативах (организациях, митингах) зарегистрирована среди активных интернет-пользо-вателей, выходящих в сеть ежедневно или несколько раз в неделю. В конце 2018 г. российское общество столкнулось с форматом таких игр в Интернете, в которых были посылы к насилию, деструктивным действиям.
Деструктивность гражданско-активистских социальных практик, с одной стороны, может проявляться в агрессивных делинквентных формах, представляющих общественную опасность. С другой стороны, молодежные деструктивные гражданские инициативы могут быть общественно полезными, направленными на благо общества, решение актуальных проблем, связанных с социальным неравенством, коррупцией, социальной несправедливостью. На сегодняшний день основное внимание исследователей уделяется крайним формам деструктивной гражданской активности молодежи, проявляющимся в агрессивном экстремистском поведении. Хотя необходимо учесть, что деструктивность следует рассматривать не только с позиции деформирующих изменений, приводящих к разрушениям, но и с точки зрения онтологического развития, а именно «со-развития», «со-участия», «со-управления» социального актора во взаимодействии с социальными структурами и институтами.
Цель статьи – концептуализация деструктивной гражданской активности молодежи, проявляющейся как в позитивных, так и негативных активистских социальных практиках. Научными задачами, на решение которых направлен авторский анализ, являются: уточнение необходимого категориально-понятийного аппарата, ключевых показателей и индикаторов оценки гражданской активности молодежи; анализ различных трактовок и социологического понимания феноменов «граждан- ственность» и «деструктивная гражданская активность», структуры, типов (форм) проявления; авторское определение деструктивной гражданской активности молодежи и деструктивного гражданского контента.
Гражданственность: понятие, структура, типологии
Осмысление гражданственности, гражданской активности – в центре внимания разных наук. Согласно правовому акценту в определениях гражданственности эта категория охватывает: осознание индивидом своих прав, свобод и умение их осмысленно и рационально применять в реальной действительности в границах уважения прав и свобод иных граждан; форму активности граждан в обществе, нацеленную на реализацию социальных интересов; заинтересованную деятельность гражданина в рамках закона. То есть в основе гражданского поведения человека в обществе лежит «знание о правоотношениях и следование нормам этих правоотношений» [Курячая 2017, 238].
Через призму педагогического подхода [Грибанова 2018; Куршев 2015] гражданственность – это черта характера личности, включающая в себя направленность (положительную, отрицательную) и опыт гражданской деятельности, которая может формироваться через знания, навыки, умения, усиление воспитательного потенциала образовательных учреждений по вовлечению молодежи в созидательные формы гражданского участия.
В русле социологической парадигмы гражданский активизм рассматривается, прежде всего, как социальный активизм, предполагающий активное включение управляемых в процесс управления, проявление различных гражданских инициатив «не только в политике и социально значимых действиях, но и в повседневной жизни людей» [Савельева 2013, 21]. В результате среди населения получают широкое распространение социальные практики, содействующие решению наиболее актуальных общественных проблем; активизируется добровольное участие населения в общественных объединениях, массовых мероприятиях различной направленности (в сфере общественного контроля, экологии, добро- вольчества, благотворительности). Социальный активизм (социальное участие) предстает как устойчивый вид общественных практик в пространстве повседневности [Newton, Giebler 2008], признается важнейшим ресурсом социальной солидарности, необходимым условием эффективности и осмысленности взаимодействия общества с властью [Яковлева, 2017].
В социологических исследованиях выявление социальной базы гражданского активизма и ее типологизация (периферийные группы, сочувствующие, отчужденные) строится на основе измерения показателей распространенности и укорененности в жизненных практиках различных форм гражданского участия (политических, неполитических), готовности к поддержке общественных движений. Установлено, что социальной базой современного российского гражданского активизма являются социально продвинутые, успешные, мобильные социальные группы, а его уровень и содержание связаны с показателями социального самочувствия, ценностной (мировоззренческой) структуры, жизненным целеполаганием населения [Седова, 2014].
В современной политической мысли при обращении к категории гражданства подчеркивается необходимость выстраивания механизма эффективного взаимодействия власти и граждан таким образом, чтобы гражданское общество, на равных взаимодействуя с государством, могло влиять на него. Изменение системы государственного управления в сторону большей открытости, подконтрольности обществу, сделало гражданское общество частью принятия многих публичных решений. Концепции «совместного управления» (governance) и «хорошего управления» (good governance) выдвинуты в 1997 г. в программных документах развития ООН [Human development… web]. Благодаря современным интернет-коммуникациям (интерактивные ин-тернет-сервисы для формирования гражданских инициатив) стали развиваться новые формы гражданского активизма, способствующие повышению уровня социального участия граждан [Никовская 2017, 145].
В соответствии с идеями представителей коммунитаризма, субъектность гражданина может быть понята в рамках членства в коллективности более широкого порядка: семьи, коллектива, социального класса или нации. То есть через гражданство определяется социально-культурная идентичность индивида, его членство в конкретном сообществе, группе. Индивиды, идентифицирующие себя с той или иной социокультурной общностью (группой), выступают носителями определенных культурных прав и обязанностей, реализация которых возможна через выражение своей идентичности в публичном пространстве [Малахов 2013, 6]. Институт гражданства характеризуется «наличием, наряду с гражданами, неграждан, наряду с обладателями прав (например, “на сохранение культуры”, на идентичность), – тех, кто их лишен. Ядро культурного гражданства – ущемленные меньшинства» [Ионин 2014, 9].
Основываясь на макросоциологической теории «новых социальных движений» [Buechler 1999; Offe 1985; Pichardo 1997; Scott 1990], современные гражданские активисты предстают проводниками (выразителями) идентичности нового типа, деятельность которых структурируется вокруг системы ценностей (права человека, антикоррупционные, антивоенные выступления, против теневой экономики, экологических преступлений, проституции, инфантосексуализма), враждебных не властным структурам, а социальным группам и конкретным людям с иной идентичностью. В свою очередь, молодежное движение выступает характерным показателем социально-политической социализации, связей, взаимодействий молодежи, самоорганизации, формирования ответственности и патриотизма [Левашова 2012, 322].
В социально-политическом осмыслении процессов гражданской активности, предполагающем интеграцию социологических и политологических исследовательских подходов и концепций, гражданственность – это осознанная потребность человека в деятельном участии в гражданской жизни, подготовленность к подобной активности и сам процесс гражданского участия, обусловленный личностной позицией гражданина, а также складывающейся ситуацией непосредственно в гражданском обществе [Решетников 2012, 11]. Гражданская активность – форма социально-политической активности, основанная на осознании личной ответственности за благополучие государства, которая выражается в неравнодушном отношении к актуальным проблемам общества, в способности и готовности гражданина проявить гражданскую позицию, отстаивать групповые и личные права, интересы.
В социально-политических исследованиях предлагаются различные типологизации форм и уровней проявления гражданственности. Так, выделяются инертный (с ориентацией на устойчивость, стабильность) и активный (с ориентацией на инициативность и перемены) типы гражданственности; политический (участие в подготовке и проведении выборов, политические интернет-сообщества) и неполитический (связанный с повседневной жизнью и интересами граждан, благотворительностью) гражданский активизм, которые дополняют друг друга и проявляются на личностном и коллективном уровне. При этом выявлена зависимость степени ( уровня ) гражданской активности от параметров социального самочувствия граждан (удовлетворенность жизнью, материальная защищенность, доступность медицины, образования, возможности самореализации); системы ценностных установок (жить в справедливом обществе); готовности защищать гражданские права; уровня вовлеченности в социальные интернет-сети. Отчетливо просматривается тенденция роста интереса граждан к разнообразным неформальным формам низовой активности посредством самоорганизации. Прогнозируется и рост политического участия по мере развития неполитических гражданских практик участия [Петухов и др. 2014].
В условиях формирования и развития информационного общества, когда «онлайн-активность приобретает характеристики устойчивости, повторяемости, массовости, присущие социальным практикам» [Бойко 2018, 68], появляются новые формы социальной активности, например, гражданский интернет-активизм , представляющий собой осознанные целенаправленные действия (поступки) отдельных граждан или социальных групп в online-пространстве, строящиеся вокруг конкретной ситуации-проблемы и направленные на ее решение.
Гражданственность по уровню участия подразделяется на три типа: 1) номинальная – участие граждан только по вопросам формальных гражданских прав (гражданин защищен от негативной гражданской репутации, безиници-ативен и формально исполняет гражданские обязанности); 2) идеальная – гражданское служение, реализация духовно-нравственных потребностей личности во имя достижения высших общественных ценностей (справедливости, равенства, нравственной ответственности, добра, милосердия); 3) партисипативная – наиболее заинтересованное, увлеченное и продуктивное участие граждан в жизни общества в разнообразных формах гражданской активности: поддержание и реализация гражданских инициатив; электоральная активность; общественный контроль; организация местного самоуправления; добровольчество, благотворительность; защита гражданских прав, борьба против проявлений неравенства [Решетников 2012, 142–146].
Для гражданской активности партисипа-тивного типа характерны различной степени автономия, протестный потенциал с вовлечением молодежи, способность вылиться в цветные революции. В русле возрастания степени, «градуса» гражданской активности последовательно возникает необходимая нам категория деструктивной деятельности, активности молодежи.
Категоризация деструктивной гражданской активности молодежи
Определенным парадоксом социальной активности вообще является стремление человека к деструктивности – нарушению, разрушению нормальной структуры чего-либо (окружающего мира, самого себя), не устраивающего человека. В соответствии с самыми разнообразными основаниями выстраиваются классификации деструктивного поведения, например: внешнедеструктивное и внут-ридеструктивное поведение. А разновидностями, в свою очередь, отклоняющегося поведения полагаются созидание, творчество и антиобщественные, разрушительные действия [Гилинский 1990, 45–46].
Деструктивная деятельность может носить целенаправленный характер реакции на определенную социальную конструкцию [Дмитриев, Залысин 2000, 92–95]. При этом молодежь более импульсивно реагирует на углубление социального неравенства и проявления социальной несправедливости в российской действительности. Согласно социологическим исследованиям ведущим мотивом гражданского молодежного активизма является «следование идеалам, стремление сделать мир лучше» [Трофимова 2015, 74].
Однако социальный активизм молодежи находит проявление не в «исключительно социально одобряемых действиях ( классический активизм ), но и в явно социально не одобряемых ( агрессивный активизм ) на фоне латентного социального одобрения» [Калиева 2016, 79]. Например, в ответ на ограничения или ущемление в правах, касающихся непосредственно жизни или интересов людей, социальная активность может сопровождаться девиантными и делинквентными действиями ( делинквентный социальный активизм ). При этом молодежь выступает против следствия проблем, а не их причин, то есть против уже проявленного нарушения их прав и интересов [Михайлова, Скогорев 2017, 58].
Деструктивный молодежный активизм выражается в агрессивных индивидуальных и коллективных вербальных и невербальных действиях открытого сопротивления в ответ на принятие законопроектов, угрожающих гражданским интересам молодежи (например, свободе интернет-пространства); в ответ на бездействие местных властей в ситуации завала города снегом, из-за которого встал транспорт, обрушены здания, появились жертвы среди населения; на криминальное поведение каких-либо представителей власти, бизнес-элиты при явном бездействии правоохранительных органов; в связи с неудовлетворительными условиями жизни. Данный активизм может иметь резко негативные следствия, результаты и вместе с тем конструктивные последствия для общества, позитивные изменения.
На это обстоятельство обратили внимание исследователи межпоколенческого конфликта еще в 1960-х гг., когда Европу охватили массовые студенческие волнения. Так, К. Мангейм расценивал молодое поколение как социальный ресурс, главная функция которого – «оживляющее посредничество» в условиях острой необходимости социальных преобразо- ваний [Мангейм 1994, 444]. Динамичные общества, по мнению ученого, должны опираться на молодежь для быстрого приспособления к изменяющимся общественным условиям. Другими словами, межпоколенческий конфликт способствует общественному развитию, адаптации к изменившейся социально-политической, или экономической реальности.
Исходя из конфликтологической парадигмы, деструктивный гражданский активизм молодежи – это своеобразная ответная реакция молодых людей на какую-либо социальную несправедливость, которая каузально проявляется при обострении конкретных общественных проблем и конфликтов. Данная активность обнаруживается и в деструктивных социальных практиках, полезных для общественного развития, проведения в жизнь необходимых социально-политических, социально-экономических преобразований, поскольку любой конфликт по своей природе функционален.
В политической социологии представлено определение протестной активности как «качественного выражения социальной напряженности», формы проявления «поведенческой установки граждан на социальный протест», вплоть до открытых противостояний, в целях устранения источников несправедливости [Баранова 2012, 144–145]. Ряд отечественных авторов также подчеркивают, что протестная активность выступает индикатором и следствием накопившейся социальнополитической напряженности [Родимушкина, Черникова, Яковлев 2015, 300–304]. Социологическое исследование «Отношение российского студенчества к цветным революциям и политико-правовым мерам противодействия им», проведенное в 2016–2017 гг. ( N = 1 652), выявило, что для молодых россиян актуальны не аресты коррупционеров, а несправедливое использование власти и крупной собственности, в силу чего неравенство в обществе углубляется [Суровов и др. 2019]. Эти обстоятельства способствуют протестным настроениям, отражаются в оценках студентов.
Значимым сопредельным понятием в рамках проводимой концептуализации является категория экстремизма – приверженность к крайним взглядам и действиям, имеющая «широкий ряд проявлений: мятеж, создание параллельных структур власти, выдвижение ультиматумов, акции гражданского неповиновения, вооруженное сопротивление конституционным органам» [Щебланова 2010].
В основе экстремизма лежит конфликт между социальными общностями людей, разделенными на «наших» и «чужих». В разные периоды истории ведущими в возникновении экстремизма выступали различные факторы: политический, территориальный, экономический, этнический, религиозный. Экстремальному поведению наиболее подвержены молодые люди в возрасте от 13 до 30 лет – самая уязвимая в социальном и экономическом положении группа населения. Происшедший в 2018 г. теракт в Архангельске является словно продолжением традиции народовольцев, пропагандировавших изменение, переустройство России экстремистским действием «снизу», призванным надломить устойчивость системы. Студент техникума, подорвавший себя в здании областного управления ФСБ, выразил протест против несправедливости мира (о чем сообщил в предсмертной записке в телеграмм-канале) [Брицкая web]. Возможно, эта акция знаменует одну из тенденций современного молодежного экстремизма, терроризма, еще бессистемного, неорганизованного, трудно прогнозируемого и предотвращаемого.
В связи с расширением возможности для протестных и оппозиционных сил осуществлять мобилизацию сторонников через Интернет и мобильные сети, стали изучаться сетевые модели протестной активности [Ушкин 2015]. Исследованием сети Интернет, активно используемой для размещения протестных, экстремистских материалов, занимается ряд ученых. Выявлено, что экстремистские материалы размещаются не только на определенных тематических сайтах, но и в блогах, комментариях к публикациям, распространяются через электронную почту [Жаворонкова 2015]. Идеологи протестных, экстремистских движений, используя возможности компьютерной коммуникации сети Интернет, активно воздействуют на сознание граждан, и в первую очередь молодежи [Амелина 2018]. Наибольшее распространение получили такие формы экстремистских проявлений в социальных сетях, как: графические документы (фотоколлажи, рисунки, «мемы», отредактированные с помощью фотомонтажа фотогра- фии); на втором месте – тексты, видеофайлы; на третьем – аудиофайлы. Больше всего экстремистской информации размещается в социальной сети «ВКонтакте» [Соловьев 2016, 63].
Основываясь на вышеуказанных характерных особенностях проявлений гражданской активности молодежи, признаках деструктивности, экстремизма, мы сформулировали авторское понимание деструктивной гражданской активности молодежи и деструктивного гражданского контента (присутствующего в интернет-пространстве). Итак, деструктивная гражданская активность молодежи – это действия молодых людей, возникающие вследствие социальной несправедливости, неравенства, социально-политической напряженности с целью преобразований или противодействия им, проявляющиеся в коллективных и индивидуальных дискурсах, протестных акциях (в том числе открытого протеста, сопротивления, экстремизма), как явно неодоб-ряемых, так и латентно одобряемых обществом. А деструктивный гражданский контент – негативно окрашенный контент, выстраивающийся вокруг конкретной ситуации-проблемы, направленный на ее решение, на благо общества, фиксирующийся в текстовой, графической, аудио- и видеоинформации, но при этом нарушающий социальные нормы, ценности, права людей, оказывающий разрушительное воздействие на социальное самочувствие, репутацию человека, функционирование институциональных структур. Гражданский разрушительный активизм (прослеживающийся в оффлайн и онлайн-пространствах) в невысокой степени деструктивности не наносит существенного вреда обществу; в крайней степени своих проявлений он квалифицируется как экстремизм (в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Проблема воздействия на позитивную гражданскую активность людей, в том числе молодежь на региональном уровне, прослеживается в научной литературе в неразрывной связи с понятием гражданского общества, развитием правового образования, духовнонравственной, правовой культуры молодежи, воспитания таких гражданских качеств личности, как: патриотизм, ответственность, миротворчество, добровольческое служение, волонтерство. Важно учитывать и механизмы, побуждающие молодежь оставаться в регионе и развивать его через конструктивную гражданскую самореализацию.
Выводы
Проведенная проблематизация гражданственности, активного участия в ней молодежи, показала, что она имеет междисциплинарный характер, значительную разработанность. В настоящее время тема идеологизирована, выступает объектом притязаний различных социальных, политических сил, придающих ей содержание исходя из оснований собственной деятельности и преследуемых целей. Понимание гражданского активизма в интеграции с его деструктивной составляющей в научной литературе не концептуализировано, определение категории «деструктивная гражданская активность молодежи» отсутствует. Исследования, обращенные к изучению деструктивных социальных практик гражданской активности молодежи, основываются преимущественно на разработках, посвященных экстремизму. Современное осмысление и систематизация основных теоретико-методологических подходов к исследованию гражданской активности в аспекте деструктивности позволили установить, что деструктивный гражданский активизм молодежи – это: 1) своеобразная ответная реакция молодых людей на какую-либо социальную несправедливость, каузально проявляющаяся при обострении конкретных общественных проблем и конфликтов; 2) тематически разнообразное, сложно организованное и многоуровневое проявление социально-политической активности, имеющее определенный потенциал не только негативной, но и позитивной направленности.
Социальная полезность деструктивной гражданской активности молодежи может заключаться в выполнении функции смягчения причин социального недовольства, поскольку в конечном счете происходит трансформация устаревших традиционных норм, приспособление к изменившимся условиям, что способствует «оздоровлению» социума. Гражданские активисты, осознавая и артикулируя свои и противостоящие интересы, выявляют в них общие проблемы и приспосабливают их друг к другу.
Деструктивная гражданская активность способна становиться движущей силой конструктивных социальных изменений. Однако в радикальной (экстремистской) форме деструктивный гражданский активизм носит негативный, разрушительный характер, может дестабилизировать социальные отношения, нарушать стабильность социально-политического и социально-экономического развития общества.
Список литературы Деструктивная гражданская активность молодежи: теоретико-методологическая концептуализация
- Амелина Я.А. Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в российских школах -далее везде? М.: Издатель Воробьев А.В., 2018.
- Баранова Г.В. Методика анализа протестной активности населения России//Социологические исследования. 2012. № 10. С. 143-152.
- Бойко Н.Л. Содержательно-целевое структурирование социальной активности в Интернете//Logos et Praxis. 2018. Т. 17, № 4. С. 67-73. DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2018.4.8
- Брицкая web -Брицкая Т. Взрыв протеста? //https://www. novayagazeta.ru/articles/2018/11/01/78426-vzryv-protesta.
- Гилинский Я.И. Творчество: норма или отклонение?//Социологические исследования. 1990. № 2. С. 41-49.
- Гражданская активность web -Гражданская активность //http://www. levada.ru/2019/02/13/grazhdanskaya-aktivnost/
- Грибанова В.А. Исследование гражданской активности студенческой молодежи//Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1, № 3 (50). С. 164-171.
- Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Насилие: социо-политический анализ. М.: РОССПЭН, 2000.
- Жаворонкова Т.В. Использование сети Интернет террористическими и экстремистскими организациями//Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 3. С. 30-36.
- Ионин Л.Г. Парад меньшинств. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2014.
- Калиева Ж.А. Социальные аспекты активизма молодежи: анализ региональных практик//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2016. № 2 (61). С. 77-80.
- Курячая М.М. Правовые аспекты развития гражданской активности в современной России//Научные труды Российской академии юридических наук. М.: Юрист, 2017. С. 237-240.
- Куршев А.В. Структура гражданственности личности//Образование и общество. 2015. № 5 (94). С. 108-104.
- Левашова Е.Л. Анализ проблем российской молодежи в современных условиях преобразования общественно-политической жизни//Вестник Омского университета. 2012. № 1. С. 322-326.
- Мангейм К. Диагноз нашего времени: пер. с нем. М.: Юристъ, 1994.
- Малахов В. Гражданство как концепт и институт: что, как и зачем изучать//Малахов В.С., Яковлева А.Ф. (ред.). Гражданство и иммиграция: концептуальное, историческое и институциональное измерение: сб. ст. М.: Канон+, 2013. С. 6-32.
- Михайлова Е.В., Скогорев А.П. Протесты как форма гражданской активности в современной России//Власть. 2017. № 1. С. 54-59.
- Недовольство властями web -Недовольство властями. Опрос «ФОМнибус» 12-13 января 2019//http://bd.fom.ru/pdf/d02nv2019.pdf.
- Никовская Л.И. Гражданский активизм и публичная политика в России: состояние и вызовы//Государство и граждане в электронной среде. 2017. Вып. 1. С. 144-158.
- Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В. Гражданский активизм в России: мотивация, ценности и формы участия//Власть. 2014. № 9. С. 11-19.
- Решетников О.В. Концепция развития общественной политики в современной России: монография. М.: Изд-во РГСУ, 2012.
- Родимушкина О.В., Черникова И.А., Яковлев О.В. Социальная напряженность и протестная активность в России//Общество и право. 2015. № 1. С. 300-304.
- Савельева Е.А. Гражданская активность молодежи: варианты концептуализации понятия//Вестник РУДН. Серия: Социология. 2013. № 2. С. 21-31.
- Седова Н.Н. Гражданский активизм в современной России//Социологический журнал. 2014. № 3. С. 48-71.
- Соловьев В.С. Криминологическое исследование экстремистских проявлений в социальных сетях интернета//Юрист-Правовед. 2016. № 5. С. 63-69.
- Суровов С.Б., Малько А.В., Коновалов И.Н., Логинова Л.В. Отношение российского студенчества к цветным революциям//Социологические исследования. 2019. № 3. С. 87-100. 0004281-2.
- DOI: 10.31857/S01321625
- Трофимова И.Н. Гражданский активизм в современном российском обществе: особенности локализации//Социологические исследования. 2015. № 4. С. 72-77.
- Ушкин С.Г. Теоретико-методологические подходы к изучению сетевой протестной активности: От «умной толпы» к слактивизму//Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 3. С. 3-11. 10.14515/monitoring. 2015.3.01.
- DOI: 10.14515/monitoring.2015.3.01
- Щебланова В.В. Динамика рисков современного терроризма. Саратов: Изд-во СГТУ, 2010.
- Яковлева О.К. Благотворительное поведение как форма социального активизма//Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2017. Вып. 4. С. 614-621.
- DOI: 10.17072/2078-7898/2017-4-614-621
- Buechler S.M. Social Movements in Advanced Capitalism: The Political Economy and Cultural Construction of Social Activism. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Human development... web -Human development report 1997//http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/258/hdr_1997_en_complete _nostats.pdf.
- Newton, Giebler web -Newton K., Giebler H. Patterns of Participation: Political and Social Participation in 22 Nations, Berlin, Discussion Paper SP IV 2008-201//https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19714/ssoar-2008-newton _et_al-patterns_of_participation _political_and. pdf?sequence=1.
- Offe C. New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics//Social Research. 1985. Vol. 52, No. 4. P. 817-867.
- Pichardo N.A. New Social Movements: A Critical Review. Annual Review of Sociology. 1997. Vol. 23. P. 411-430.
- Scott A. Ideology and the New Social Movements. L.: Unwin Hyman, 1990.