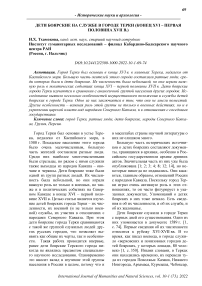Дети боярские на службе в городе Терки (конец XVI - первая половина XVII в.)
Автор: Тхамокова И.Х.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 10-1 (73), 2022 года.
Бесплатный доступ
Город Терки был основан в конце XVI в. в низовьях Терека, недалеко от Каспийского моря. Большую часть жителей этого города составляли ратные люди, среди которых были и дети боярские. Их численность была небольшой, но они играли важную роль в политических событиях конца XVI - первой половины XVII в. Дети боярские города Терки изучаются в сравнении с аналогичной группой населения других городов. Исследование выявило несколько особенностей имущественного положения и службы детей боярских в городе Терки. Одно из них заключается в том, что они не имели поместий. Другие особенности - важная роль этой группы не только в военных действиях, но и в укреплении царской власти над народами Северного Кавказа, и в отношениях с соседними государствами.
Город терки, ратные люди, дети боярские, народы северного кавказа, грузия, персия
Короткий адрес: https://sciup.org/170197236
IDR: 170197236 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-10-1-69-74
Текст научной статьи Дети боярские на службе в городе Терки (конец XVI - первая половина XVII в.)
Город Терки был основан в устье Терека, недалеко от Каспийского моря, в 1588 г. Посадское население этого города было очень малочисленным, большую часть жителей составляли ратные люди. Среди них наиболее многочисленными были стрельцы, но рядом с ними служили также выходцы из народов Кавказа – око-чане и черкесы. Дети боярские тоже были одной из групп ратных людей. Их численность была небольшой, но они играли важную роль не только в военных, но также и в политических событиях на Северном Кавказе в конце XVI – первой половине XVII в. Целью статьи является изучение детей боярских города Терки – их численности, их военной (и не только военной) службы, их участия в отношениях с народами Северного Кавказа. При этом дети боярские города Терки сравниваются с такой же группой служилых людей других русских городов, что позволяет выявить как общие их черты, так и особенности. Такая работа проводится впервые, ранее дети боярские Терского города никогда не являлись предметом специального научного исследования. Одновременно это вносит вклад в изучение этой группы населения в России в целом, потому что и в масштабах страны научной литературы о них не слишком много.
Большую часть исторических источников о детях боярских составляют документы, хранящиеся в архивах, особенно в Российском государственном архиве древних актов. Значительная часть из них уже была опубликована [1; 2; 3; 4; 8; 12; 14], но некоторые никогда не издавались. Они касаются, главным образом, отношений России с народами Кавказа. Поскольку город Терки играл очень активную роль в этих отношениях, то он часто фигурирует в указанных документах. Упоминаний о детях боярских в них тоже немало. Есть сведения и об их численности, и об их службе, и об их жалованье.
Дети боярские служили в городе Терки с первых дней его существования. Один из них упоминается в документе 1589 г. [1, c. 74]. Первые сведения об их численности относятся к рубежу XVI-XVII вв. В то время, как писал воевода, в городе служило «верховских и понизовных городов детей боярских, у которых лошади, 80 человек» [1, c. 350]. Иными словами, в Терках они находились временно, их перевели туда из городов Поволжья: Казани, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Курмыша, Чебоксар,
Свияжска и др. [1, c, 452, 538; 2, т. 2, c.355; т.3, c. 11, 14] Тех же, кто постоянно проживал в Терском городе, было в несколько раз меньше – вместе с черкесами и «ново-крещенами» всего 40 человек [1, c. 351]. Это одна из особенностей города – в первый период его существования большая часть детей боярских находилась там временно. Однако к 1620 гг. ситуация изменилась. В 1624-25 гг. в Терках служили 35 детей боярских, а в 1636-37 г. – 41[3, т. 1, стб. 1141; т.2, стб. 817; 4, c. 122]. В этот период уже не было упоминаний о детях боярских из других городов, но численность живших в Терках представителей этой группы оставалась небольшой.
Дети боярские имели высокий социальный статус. Терский воевода при перечислении жителей города первым называл кабардинского князя Сунчалея, затем – стрелецкого «голову», за ним – детей боярских, и уже после них – стрелецких сотников, пятидесятников, десятников и весь мир Терского города [1, c. 531-532]. То есть в социальной иерархии дети боярские занимали место между стрелецким «головой» и сотниками.
Одной из особенностей положения этой группы в Терках являлось отсутствие у нее поместий. В документе 1621 г. сказано: «терских детей боярских помесными оклады не верстают, и поместей за ними не живет, а дают им в поместья место годовое жалованье деньги да хлеб» [2, т. 3, c. 622]. В Астрахани и в других городах Астраханского края у детей боярских тоже не было поместий [5, c. 54], но в большинстве русских городов такие поместья были обязательны. В качестве жалованья один из терских детей боярских с 1620 г. получал 14 рублей в год и 16 четей ржи и овса. За участие в военных походах полагалось дополнительное жалованье [2, т. 3, c. 622].
Сын боярский обычно наследовал социальный статус от своего отца. Но бывали случаи, что в состав детей боярских включались выходцы из других социальных групп. Документы 1614 г. упоминают казачьего атамана Якова Гусевского, у которого был свой казачий городок на Теплой реке «в гребенях». Уже два года спустя – в 1616 г. – речь идет о терском сотнике стрелецком Якове Гусевском [1, c. 541; 6, л. 38]. В 1625 г. в Москву за жалованьем приезжал сын боярский Яков Гусевский [7]. То есть казачий атаман превратился в сотника стрелецкого, а затем – в сына боярского. Были и другие похожие случаи. В 1615 г. в Терках служил сотник стрелецкий Василий Надобной, а к 1622 г. он стал уже сыном боярским [8, c. 89, 103]. Переход из сотников в дети боярские практиковался не только в Терках, но и в других русских городах [9, c. 123].
Возможно, что некоторые дети боярские происходили и из иных социальных групп. Терский сын боярский Сергей Си-пягин рассказывал, что его отец «служил с городом с Ростова», т.е. он мог быть и дворянином, и «сыном боярским». Но во время голода начала XVII в. Сергей Сипя-гин вместе со своим братом начал «приха-живать от бедности у головы стрелетцкого у Смирново Маматова» [2, т. 3, c. 619]. То есть братья попали в зависимость от него. Возможно, они стали «боевыми холопами», каких много было в тот период [10, c. 61-62]. В одном из документов Сергей Сипягин назван бывшим «послуживцем» Маматова, в другом документе его брат именуется даже холопом Маматова [2, т. 3, с. 389, 609]. Вместе с ним братья и приехали на Кавказ и принимали участие в походе 1604-1605 гг. в Дагестан. В ходе битвы против дагестанского и турецкого войска брат Сергея Сипягина попал в плен, а ему самому удалось благополучно вернуться в город Терки. С тех пор он и «служит государеву службу с Терского города» [2, т. 3, с. 619]. Он избавился от зависимости, потому что С. Маматов тоже попал в плен, а по возвращении из плена был казнен за вероотступничество [11, c. 57-58].
Брат Сергея Сипягина вместе с другими русскими пленными содержался в тюрьме города Шемаха. После того как персидский шах Аббас занял этот город, он освободил их. Большинство из пленных вернулось на родину, но брат Сергея Сипягина остался в Персии. Он принял ислам и стал толмачом у шаха Аббаса. Когда об этом стало известно Сергею Сипягину, он вместе с отправлявшимся в Персию гонцом – сыном боярским Григорием Шахматовым
– отправил брату письмо (с ведома терского воеводы), в котором убеждал его вернуться на родину. Однако брат передал ему, что вернуться не может, шах его не отпустит. В свою очередь, брат говорил о том, что хотел бы вызвать Сергея в Персию [2, т. 3, c. 389]. Затем Сергей Сипягин написал (уже тайно от воевод) новое письмо брату, в котором, по его словам, снова призывал его вернуться. Письмо должен был передать один из людей, сопровождавших московское посольство в Персию. Однако об этом письме стало известно послам, а затем терским воеводам и московским властям.
В 1621 г. Сергея Сипягина привезли в Москву, где началось разбирательство его дела. В итоге царь освободил его от наказания («опалу свою ему отдал»), но указал сослать его вместе с семьей в Великий Новгород – подальше от Персии [2, т. 3, с. 619-620]. Там он должен был продолжать свою службу, получать царское жалованье и даже получить поместье, которое полагалось иметь новгородским детям боярским, в отличие от терских [2, т. 3, c. 622].
Дети боярские в Терках, как и в других русских городах, несли военную службу. Они участвовали в многочисленных военных походах, хотя это не всегда отмечалось источниками. Иногда документы сообщают о ратных людях в целом, не разделяя их по категориям. Однако в ряде случаев участие детей боярских специально отмечалось. В 1615 г. терские воеводы писали в Москву о том, что несколько правителей Дагестана обратились к ним с просьбой помочь им в войне с Султан-Махмудом, который занимал соседние с ними земли. Он нападал на их села, убивал людей и угонял скот. Воеводы послали стрельцов, казаков, а также детей боярских – Семейку Волкова вместе с двумя пушкарями и Ивана Кондратьева с «окочанами» (группой вайнахов, служивших в Терках) [4, c. 66-70; 12, c. 49-53]. Дети боярские, видимо, командовали теми или иными подразделениями ратных людей. В состоявшейся битве Султан-Махмуд потерпел поражение, потерял много людей.
В 1634 г. на Султан-Махмуда снова жаловался один из правителей Дагестана – Ильдар-шамхал. По его просьбе терские ратные люди снова выступили в поход. Среди них были и дети боярские. Однако в этот раз битвы не состоялось – узнав об их приближении, Султан-Махмуд отступил в горы [12, c. 120].
Но не всегда военные походы проходили столь успешно. В 1641 г. состоялась крупная битва между двумя враждовавшими группами кабардинских князей. На стороне одной из этих групп выступили терские ратные люди, среди которых было и 18 детей боярских [8, c. 204]. Они потерпели поражение, многие из них, в том числе и дети боярские погибли или попали в плен. После этого терский воевода обратился к победившим князьям и потребовал вернуть пленных, но ему ответили, что без выкупа их не отдадут [8, c. 199, 205].
Терские дети боярские несли службу и в городе, и в соседних укреплениях. И в этих случаях дети боярские могли командовать стрельцами. В 1598 г. в Сунженском остроге находились дети боярские Иван Пелепелицын и Иван Шильников [1, c. 290]. Они, очевидно, командовали гарнизоном этого укрепления, которое неоднократно сносилось и вновь отстраивалось. В очередной раз это произошло в 1635 г. К месту будущего острога тогда прислали «сына боярского» Бессона Неелова и сотника стрелецкого, которые, очевидно должны были руководить работами, а вместе с ними прибыли стрельцы и плотники [8, c. 160].
Помимо военной службы дети боярские выполняли функции, близкие к полицейским. Их привлекали к расследованию преступлений, они должны были доставлять к терским воеводам виновников грабежей и похищенное имущество. И в этих случаях, как и в ходе военных походов, они руководили отрядами стрельцов. В 1640 г. терские казаки ограбили персидских купцов. После этого воеводы послали в казачьи городки сына боярского Игната Прохорова вместе со стрельцами для того, чтобы найти разграбленное имущество и привезти в Терки преступников. Однако «воровские казаки» не только не вернули похищенное и не выдали виновных, но напротив, «хотели его Игнатия с стрельцы побить» [13, с. 216]. Игнатию Прохорову со стрельцами удалось уйти в другой городок, но вместо наказания ему пришлось ограничиться только словесным внушением казакам о том, что «они то учинили негораздо, погромили торговых людей ино-земцов тезиков» [13, c. 215].
Дети боярские также играли важную роль в дипломатических отношениях с соседними странами. Например, они должны были провожать московских послов от города Терки в Грузию. В 1604 г. послов сопровождали 43 «сына боярских» (выходцев из нескольких городов Поволжья, служивших в Терках) вместе со стрельцами, «новокрещенами» и окочанами [1, c. 422, 449, 452]. Дети боярские встречали московских послов, возвращающихся из Грузии, и грузинских послов, едущих в Москву, и провожали их до Терок или даже до Москвы [1, c. 350, 372-373; 14, с. 145, 231]. Кабардинских князей и других правителей Северного Кавказа сопровождали в Москву тоже дети боярские [1, c. 517, 8, c. 105].
Их же часто отправляли с письмами в Грузию и в Персию. В 1603 г. терский жилец сын боярский Иван Морышкин был послан с грамотами к грузинскому царю Александру и пробыл в Грузии полгода [1, c. 364, 385-386]. В 1614 г. сын боярский Семен Шушерин был послан из Терок в Дербент с грамотами и с известием об избрании Михаила Романова на царство [2, т. 2, c. 355-356]. В 1619 г. «сын боярской Первой Лаврентьев сын Лукин» был отправлен из Терок в Персию к московским послам с сообщением о заключении мира с польско-литовским государством [2, т. 3, c. 389].
Кроме того, дети боярские доставляли письма из Терок в Москву, а из Москвы в Терки [2, т. 2, c. 277, 359; т. 3, c. 4; 8, c. 103, 131, 157, 205; 12, c. 43, 159; 14, с. 145], а также привозили царское жалованье правителям Северного Кавказа [12, c. 140, 146]. Они же доставляли и в другие русские города письма терских воевод. В 1616 г. с терским сыном боярским Степаном Савиным было отправлено в Астрахань письмо с просьбой прислать в Терки дополнительных ратных людей [8, c. 93].
Терские дети боярские передавали правителям Северного Кавказа письма и устные послания царей и терских воевод. В 1614 г. сын боярский Григорий Шахматов привез в Дагестан грамоты об избрании царя Михаила и очищении русской земли от поляков [1, c. 538]. С такими же грамотами в Кабарду был послан сын боярский Мосей Пиминов [8, c. 87]. В 1619 г. сын боярский Алексей Смагин доставил в Дагестан Ильдару-мурзе письмо терского воеводы [12, c. 67-68].
Однако дети боярские не только доставляли почту, они во время своих поездок собирали сведения о народах Кавказа. Осенью 1615 г. терские воеводы направили в Кабарду сына боярского Мосея Пи-минова вместе с толмачом Иваном Нагаевым. Они привезли царские грамоты и царское жалованье мурзе Казыю. Однако в тот же самый день на него напали ногайцы вместе другим кабардинским мурзой – Хорошаем. Казый и многие его люди погибли, но сыну боярскому удалось благополучно покинуть поле боя [6, л. 24]. У него была царская грамота не только к мурзе Казыю, но и к отцу Хорошая мурзы – князю Шолоху. Покинув поле боя, он направился в аулы князя Шолоха, где уже находился и Хорошай-мурза. Однако он был настолько воодушевлен своей победой над мурзой Казыем, что решил отказаться от какого бы то ни было подчинения царской власти [6, л. 74]. Мосей Пи-минов доставил в Терки очень важные сведения о событиях в Кабарде.
В 1638 г. «для проведыванья подлинных вестей» в Кабарду посылали сына боярского Василия Вышеславцева, а в Дагестан – сына боярского Бессона Неелова. Сына боярского Родиона Горбатова тоже отправили в Кабарду для «проведыванья вестей» о Турции, Крыме и Большом Но-гае [8, c. 165-167].
Кроме того, те же дети боярские вели переговоры в Кабарде: Родион Горбатов – об аманатах, а Василий Вышеславцев – о письмах из Крыма, полученных кабардинскими князьями. Он должен был убедить их передать эти письма терскому воеводе.
Чаще всего подобные переговоры касались подчинения царской власти, принесения присяги царю. В 1633 г. терские вое- воды послали в Дагестан, к уцмию Кайтаг-скому, «сына боярского Первово Лукина», который должен был убедить уцмия приехать в Терки, дать царю присягу («шерть») и получить царское жалованье. Однако уцмий приехать в Терки не мог, опасаясь своих соседей и опасной дороги. Тогда к нему прислали сына боярского Василия Надобного вместе с толмачом, переводчиком и подъячим. В их присутствии кайтаг-ский уцмий «за себя и за братью свою и, за детей, и за племянников, и за всю свою Кайдацкую землю своего владенья на куране шертовал на всем против шертоваль-ной записи». После этого сын боярский передал ему царское жалованье – «кубок да шубу однорядку, шапку горлотную, лисицу черну, 2 сорока соболей» [12, c. 125126].
В 1638 г. терские воеводы послали в Дагестан к Гирею-мурзе с «братьею» и к Суркаю-мурзе того же сына боярского Василия Надобного с толмачом. Они должны были пригласить мурз в Терки, чтобы те «правду дали шерть учинили, что им быть под… царскою высокою рукою в прямом холопстве навеки неотступным» [12, c. 146]. После долгих переговоров, в которых принимали участие также и кабардинский князь Муцал, и терский стрелецкий голова Артемий Шишмарев, в Терки приехали 7 дагестанских мурз. Для их охраны к ним приставили детей боярских и стрельцов. И эти мурзы «шерть учинили за себя, и за детей своих, и за братьев, и за дядью, и за племянников и за весь род свой, и за всех людей своих, и за всю свою землю своего владенья, и за тех князей и мурз, которые с ним во единачестве», чтобы им быть под «царскою высокою рукою в вековом холопстве навеки неотступным» [12, c. 148]. После этого они получили царское жалованье.
В 1643 г. в Кабарду был послан сын боярский Андрей Сенин вместе с толмачом и несколькими кабардинскими узденями. Некоторые кабардинские князья в этот период «правду свою и шерть нарушили» и от царской «высокой руки» отступили. Надо было, чтобы они «в своих прежних неправдах исправились», признали свою вину и снова были под «государскою вы- сокою рукою» [8, c. 220]. Этого и должен был добиваться от них Андрей Сенин.
В 1645 г., по случаю вступления на престол Алексея Михайловича, все его подданные, в том числе и жители Северного Кавказа, должны были дать ему присягу верности. Те из них, кто не смог приехать в город Терки, «шертовали» в своих землях или по соседству с ними при терских ратных людях, занимавших высокое положение в социальной иерархии. Правители Дагестана присягали в присутствии детей боярских Игнатия Прохорова и Федора Борисова [8, c. 266-269].
Дети боярские города Терки тем самым способствовали усилению царской власти на Северном Кавказе. Это одна из отличительных особенностей города, связанная с его расположением, с его исключительным влиянием на соседние народы. Дети боярские, доставляя письма правителям народов Кавказа, ведя с ними переговоры, собирая сведения и передавая их терским воеводам, содействовали подчинению этих народов.
Терские дети боярские также играли важную роль в обеспечении дипломатических отношений с Грузией и Персией. Они провожали и встречали послов, доставляли письма и тем самым вносили вклад в укрепление контактов с этими странами. Это еще одна особенность службы терских детей боярских.
Как и в других русских городах, дети боярские в Терках несли военную службу, принимали участие в походах и битвах. Нередко они командовали небольшими отрядами стрельцов или других ратных людей как в военное время, так и при расследовании преступлений в мирных условиях. Они также могли руководить гарнизонами небольших укреплений или же работами по возведению оборонительных сооружений. Это соответствовало их высокому социальному статусу.
Одной из особенностей терских детей боярских являлось отсутствие у них поместий, что отличало Терки от многих русских городов. Взамен поместий они получали только жалованье – денежное и хлебное.
Список литературы Дети боярские на службе в городе Терки (конец XVI - первая половина XVII в.)
- Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом: Материалы, извлеч. из Моск. глав. архива М-ва иностр. дел. Вып. 1.: 1578-1613. М.: Унив. тип., 1889. - 584 с.
- Веселовский Н.И. Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. 1-3. Санкт-Петербург: Тип. Яблонский и Перотт, 1890-1898.
- Книги разрядные, по официальным оных спискам изданные. Т. 1-2. Санкт-Петербург: Тип. II отделения, 1853.
- Русско-чеченские отношения: Вторая половина XVI-XVII в.: Сб. док. / Выявление, сост., введ., коммент. Е.Н. Кушевой. - М.: Изд. Вост. лит., 1997. - 415 с.
- Голикова Н. Б. Очерки по истории городов России конца XVII - начала XVIII в. - М.: Изд. МГУ, 1982. - 216 с.
- РГАДА (Российский государственный архив древних актов). Ф. 110. Оп. 1. 1616 г. Д. 1.
- РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 1125. Л. 1.
- Кабардино-русские отношения в XVI-XVШ вв. Документы и материалы в 2-х томах / Ред. Т.Х. Кумыков, Е.Н. Кушева. Т. 1. - М.: Академия наук, 1957. - 478 с.
- Пузанов В.Д. Дети боярские города Верхотурье в XVII в. // Двенадцатые Татищев-ские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 2020. -С. 122-126.
- Скрынников Р.Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. - Ленинград: Изд. ЛГУ, 1985. - 327 с.
- Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографическою комиссиею. Т. 14. Ч. 1. - Санкт-Петербург: 1910.
- Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII в. (Документы и материалы). - Махачкала: Дагкнигоиздат, 1958. - 336 с.
- РГАДА. Ф. 115. Оп. 1. 1640. Д. 1.
- Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений. 1615-1640 / Подготовил Полиевктов М. -Тбилиси, 1937. - 483 с.