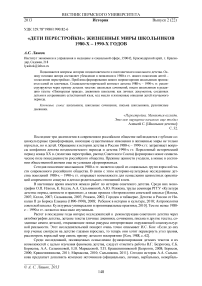"Дети перестройки": жизненные миры школьников 1980-х – 1990-х годов
Автор: Ляшок Александра Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История советсткого детства
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
Поднимаются вопросы истории позднесоветского и постсоветского школьного детства. Основу позиции автора составляет убеждение в появлении в 1980-х гг. нового поколения детей – «поколения перестройки». Проблема формирования нового мировоззрения школьников признается одной из ключевых. Социально-исторический контекст детства 1980-х – 1990-х гг. реконструируются через призму детских текстов: школьных сочинений, писем школьников в редакцию газеты «Пионерская правда», дневников школьниц как личных документов, созданных детьми и сохранивших естественный язык, ход мысли и жизненные описания детей изучаемого периода.
Школьники, школьные сочинения, письма школьников, рукописные дневники
Короткий адрес: https://sciup.org/147203472
IDR: 147203472 | УДК: 329.78"1980/1990:82-6
Текст научной статьи "Дети перестройки": жизненные миры школьников 1980-х – 1990-х годов
«Перестройка. Меняются взгляды.
Это мое ощущение началось еще тогда» Алексей С. [Школьное детство]:
С. 32.
Последние три десятилетия в современном российском обществе наблюдаются глубокие социокультурные трансформации, вносящие существенные изменения в жизненные миры не только взрослых, но и детей. Обращение к истории детства в России 1980-х – 1990-х гг. затрагивает вопросы конфликта детства позднесоветского периода и детства 1990-х гг. Переломный исторический период конца XX в. (политика перестройки, распад Советского Союза) формировал новое семантическое поле повседневности российского общества. Прежние ценности уходили, а новые в состоянии общественной аномии еще не успевали сформироваться.
Сегодня поколение школьников 1980-х гг. является одной из социальных групп взрослой части современного российского общества. В связи с этим историко-культурные исследование детства поколений 1980-х – 1990-х гг. открывает возможности для осмысления ценностных ориентаций современного социума и детско-родительских отношений в нем.
В настоящее время имеется немало работ по истории советского детства. Среди них монографии О.П. Илюхи, К. Келли, А.А. Сальниковой, А.Ю. Рожкова, труды семинара РГГУ «Культура детства: нормы, ценности и практики», а также проекта «Антропология советской школы» [Илюха, 2007; Келли, 2007; Сальникова, 2007; Рожков, 2002; Городок в табакерке. Детство в России от Николая II до Бориса Ельцина (1890-1990), 2008; Ребенок в истории и культуре, 2010; Антропология советской школы: Культурные универсалии и провинциальные практики, 2010]. Тем не менее 1980е – 1990-е гг. остаются пока мало изученным.
Растет в последние годы интерес исследователей к реконструкции советского детства через автобиографии детства, детские тексты (личные дневники, сочинения, письма и другие тексты, созданные самим детьми), открывающие новые ракурсы интерпретации окружающей социокультурной реальности. Этот исследовательский поворот очень точно описывает И.С. Кон: «Если до сих пор ученые смотрели на детство глазами взрослых, то теперь они хотят перевернуть угол зрения, рассмотреть взрослый мир сквозь призму детского восприятия» [Кон, 1988, с. 62].
Среди исследований, посвященных осмыслению функционирования детских текстов и их возможностей с целью изучения феномена детства, следует отметить работы В.Г. Безрогова, С.Б. Борисова, А.А. Сальниковой, Е.В. Маркасовой, Т.П. Крашенинниковой [Безрогов, 2008; Борисов, 2000; Крашенинникова, 2011; Маркасова, 2010; Сальникова, 2011]. Сегодня историк А.А. Сальникова предлагает дополнить комплекс источников (официальных, личных, вербальных, невербаль-
ных, документальных, нарративных, письменных, устных) оппозицией «детские–взрослые» (источники, созданные самими детьми – источники о детях и детстве, созданные взрослыми) [Сальникова, с. 62]. При этом исследователи видят приоритетность детских текстов как источников личного характера, используемых при изучении процессов детского мира «изнутри» наряду с иной исследовательской перспективой – конструированием детского мира «сверху», через призму документов официального происхождения.
Источники, созданные самими детьми становятся носителями своеобразного «детского дискурса детства», репрезентирующего историю и культуру детства в категориях и смыслах самих детей. Подобного рода тексты встраиваются в общую палитру текстов о детстве и дополняют живыми переживаниями дискуссионную «картину детства» определенной эпохи.
Несмотря на то что история советского детства в России, как было указано, уже более двадцати лет привлекает исследователей, в меньшей степени в фокусе изучения оказалось позднесоветское детство и голоса самих школьников. Между тем поколение детей, чьи школьные годы начались с первой половины 1980-х гг., стало не только свидетелем значительных событий в истории страны, но и первым «пограничным поколением детей». «Пограничным» мы называем это поколение школьников в силу того, что их «школьное детство» началось в одной социокультурной системе и завершилось вступлением на путь молодости, взросления в совершенно иную ценностную систему.
Не случайным нам кажется и то, что с февраля по апрель 1990 г. в СССР было проведено всесоюзное социологическое исследование «Дети, подростки и пионерская организация в условиях перестройки», по итогам которого социологи заговорили о появлении нового поколения детей – «поколения перестройки»: «В них много от нашего переломного времени, когда стремительно рушатся установившиеся и внушавшиеся детям ценности, когда рождаются новые идейные, нравственные и материальные ориентиры. Этот перелом – налицо в сознании, ценностях, интересах юной части общества» [Откровенный разговор…, л. 37]. Эти слова принадлежали советским взрослым, которые стали искать ответы на стремительно возникающие со второй половины 1980-х гг. вопросы о будущем подрастающего поколения детей: «Что происходит в среде детей в наше переломное время революционной перестройки общества. Как представляют себя ребята, которым в ближайшие годы предстоит стать зрелыми и деятельными гражданами обновленного социализма» [Там же, л. 36]. Массовые опросы советских школьников как раз и были попытками взрослых получить заветные ответы. Однако как сами школьники 1980 – 1990-х говорили о себе? Как в их сознании отражались и осмысливались нормы и паттерны поведения, свойственные позднесоветской и постсоветской культуре? Именно это и обусловило обращение к поиску и анализу школьных сочинений, писем школьников, рукописных дневников, так как личные документы сохранили их естественный язык, мысли, субъективные переживания.
В статье публикуются и анализируются фрагменты личных документов школьников 1980 – 1990-х гг. (сочинений, писем школьников в редакцию газеты «Пионерская правда», рукописных дневников), часть которых была найдена в фонде Российского государственного архива социальнополитической истории (материалы отдела школьной молодежи ЦК ВЛКСМ, Центрального совета Всесоюзной пионерской организации (ЦС ВПО) им. В.И. Ленина), а часть вошла в личный архив автора в после серии глубинных интервью-воспоминаний относительно школьного детства информантов 1975–1985 года рождения.
Идеология воспитания советского школьника строилась на идее привития ценности труда. Массовые сборы макулатуры, металлолома, субботники, работы в колхозах и летних лагерях труда становились повседневными событиями в жизни школьников и школьниц. Однако анализ писем в редакцию газеты «Пионерская правда» показал, что не все с легкостью принимали и усваивали предлагаемые ценности. С одной стороны имелись примеры трудовых подвигов школьников, с другой – несогласие и видение противоречивости всего происходящего. В частности, те школьники, которые принимали идею трудовой соревновательности, конкурировали между собой в классе и со сверстниками из параллельных классов. Представляется, что эта группа учеников мыслила и выражала свою позицию так, как в своем сочинении написал ученик 10-го класса средней школы им. Ф. Эшба (Абхазская АССР): «Накануне нового года наша учительница литературы попросила нас ответить на вопросы анкеты "Пятилетка – мне, я – пятилетке". Мне не пришлось долго думать над вопросом: "О каком дне пятилетки Вы могли бы сказать – большой день моей жизни?".
Есть такой день и у меня. Это когда я в три раза превысил дневную норму сбора чайного листа. Вместо 10 килограммов чая собрал 30! Ну и что же, что болели руки и спина. Рекорд моего товарища из параллельного класса был побит! Ежедневно подводились итоги. На линейке награждались победители. На этот раз это был я… Моя позиция? – Активная, трудовая! А вкус труда я почувствовал по-настоящему прошлым летом, когда мы подключились к Всесоюзному старту летней трудовой четверти и пошли работать под девизом: "Мой труд вливается в труд моей республики» в Моквский чайный совхоз" [РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 41. Д. 916. Л. 108].
Или, к примеру, записи из дневника Евгения З.: «Я в лагере труда и отдыха "Ястребок". Здесь мы не сидим сложа руки. Совхоз "Красное знамя" доверил нам 5 гектаров брюквы. Мы дружно идем на прополку. Хочется сильно пить. Солнце немилосердно жжет наши спины. Бывает минутное желание бросить тяпку, забраться в тень, растянуться и уснуть безмятежно. Но нет, мы преодолеваем минутную слабость. Осот нам кажется сказочным Змеем Горынычем, лебеда, сурепка, хвощ полевой – "черной силушкой". Ура! Одержана победа! Заработанные деньги перечислены в фонд Мира » [РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 41. Д. 916. Л. 27].
Однако, как было отмечено ранее, не все вдохновлено шли на трудовые мероприятия. Были среди школьников и те, кто не соглашался с существующей школьной системой труда. В частности, эта тема поднималась детьми в письмах в редакцию газеты «Пионерская правда»: «Здравствуй, «Пионерская правда»… Каждый год весь Советский Союз проводит коммунистический субботник. В нашей школе № 58 сначала проходит митинг, а потом 1-е, 2-е, 3-и классы идут собирать макулатуру. 4-е, 5-е, 6-е классы собирают металлолом, а 7-е, 8-е, 9-е и 10-е классы идут работать в садах или на заводе. Я учусь в 6 «В» классе, поэтому в этом году мы опять будем собирать металлолом. Но, честно говоря, и идти не хочется на этот субботник потому, что мы собираем то, что никому не нужно. Весь этот металлолом валяется возле школы, а потому ученики младших классов растаскивают его по школьному участку. Или жители, которые живут рядом со школой, выбирают себе "лакомые кусочки". А то, что остается, года лежит на том же месте, и никому до этого и дела нет. Так зачем же собирать то, что никому не нужно? Лучше мы в садах поработаем, и то больше пользы будет» [Обзор почты…, л. 20]; «Здравствуй, дорогая редакция! Пишет Вам Юлия К. Мне 13 лет, учусь в 7-м классе. У меня к Вам есть просьба разъяснить такую ситуацию, я сейчас расскажу. Вам, наверное, известно, что сейчас в 7-х классах введено УПК. Так вот, дают профессии ученикам на выбор и швеи, и медика, и повара, и воспитателя и т.д. Нашей школе дали всего на девочек 2 профессии! Да и мальчишкам не больше. Интересно, какой же тут выбор?! На девочек дали маляра и повара, а я хочу поступать в медицинский и многие тоже хотят идти по своему желанию на больше понравившиеся профессию… Вот и получается, что ты идешь туда, куда тебя запишут, а это же профессия, надо ее выбирать… Я пошла к нашей классной руководительнице и спросила у нее, почему так все получается. Она согласилась с моим мнением и сказала, что наша школа не успела. Я не могу понять, как это «не успела», что, в нашей школе хуже ребята, чем в других школах?» [РГАСПИ. Ф. М-2. Оп. 3. Д. 906. Л. 30].
Со второй половины 1980-х гг. отношение к пионерии и комсомолу в детском сообществе стало меняться. Всесоюзный социологический опрос 1990 г. подтверждал это. Так, на вопрос «Нравится ли тебе быть пионером?» только 42% школьников–участников опроса ответили положительно. Остальные ответы распределились следующим образом: 30% не нравится быть пионером, 20% не знают, как ответить, а 6 % совсем не ответили. Среди причин того, почему же не нравится быть в пионерской организации, были такие: «Мне в ней скучно, неинтересно – 31%; здесь много слов, но нет настоящих дел, не видно результата – 19%; я не приобретаю ничего полезного для жизни – 17%; все решают взрослые, у пионеров нет самостоятельности – 14%; в ней хорошо только активистам – 9%; нет дружбы, товарищества – 8%; не помогает мне развивать способности, заниматься любимым делом – 8%». При этом социологи отмечали тенденцию: вера в коммунизм у подрастающего поколения школьников убывала по мере взросления: «Если среди 10-летних в построение коммунизма верят 39%, то в 15 лет таких ребят только 13%» [Откровенный разговор…, л. 38, 57, 58].
Идеал и приоритетность пионерии, будущего статуса комсомольца постепенно уходили на второй план в системе значимости для школьников и школьниц конца 1980-х гг. В редакцию газеты «Пионерская правда» приходили тревожные письма школьников: «В нашей дружине пионерская работа ведется на среднем уровне. Некоторые пионерские отряды существуют только на бума- ге, для галочки» [Обзор почты..., л. 22]. Ученица 8 «А» класса г. Шадринска писала: «Решила я вступить в комсомол. Собрали нас всех, кто хочет, и начали проводить занятия. И вот на третьем "уроке" нам объявляют, что если кто-то не сдаст 30 кг макулатуры в определенный день, то его в комсомол не примут. Ведь из-за этих кг и достоинств, у ребят пропадает охота ко всему. Я хочу знать, в каком таком документе написано, что вступающий в комсомол должен сдать 30 кг макулатуры? Это меня интересует и еще многих моих друзей и одноклассников» [Обзор почты., л. 4]; «Прошу редакцию "Пионерской правды" помочь мне разобраться в моих еще не созревших мыслях. Мама у нас работает дояркой в колхозе. Мы очень часто со своими сестренками ходим помогать маме на ферму доить коров, так как она одна нас воспитывает 5 человек, а отец больной. Мама у нас прямой, честный человек и не любит лжи, она нас учит всегда говорить только правду. Из-за этого зоотехник Н.И. так вульгарно ругала матом при моих одноклассницах, что мне было настолько стыдно, что я проплакал всю дойку и долго не мог успокоиться. А на второй день тов. Н.И. избила мою маму, и ее освободили от работы. В октябре нас будут принимать в комсомол. Как же после этого верить руководителям, а ведь она коммунист, председатель народного контроля, председатель общества трезвости. Учителя нам дают напутствие оставаться работать в колхозе, но как ведут себя наши руководители, хочется только бежать из села», - писал ученик 7-го класса Смольковской 8-летней школы Лямбирского района Мордовской АССР [Там же, л. 5].
На кого же тогда хотели быть похожими школьники 1980 - 1990-х гг.? Как показал анализ личных документов, для школьников первой половины 1980-х гг. значимыми фигурами (кумирами) являлись пионеры-герои, молодые коммунисты. Из дневника Евгения З.: «10-е апреля. Ульяна, ты-почеховски прекрасна. Ты для меня станешь примером в жизни. Слышишь, Ульяна, это ты с нами незримо присутствуешь на комсомольских собраниях, на воскресниках, сидишь с нами на уроках. Посоветую моим подшефным октябрятам, будущим пионерам, бороться за присвоение звания отряду имени Ульяны Громовой» [«Я голосую за мир!» - конкурсное сочинение, посвященное 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, XII Всемирному фестивалю молодежи и учеников 8-го класса Ястрембельской школы-интерната Барановичского Района Брестской области // РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 41. Д. 916. Л. 26].
«Мне посчастливилось познакомиться с одной из лучших комсомолок нашей республики – это механизатор Фарабского межхозяйственного объединения " Госкомсельхозтехника " Гуляндам Халбаева. Ранняя весна. Жаркая это пора для механизаторов. Пора подготовки земли для нового урожая. Поле напоминает место боя. Главное оружие здесь – тракторы, бульдозеры. Одним из них управляет маленькая хрупкая девушка с умными темными глазами. Это и есть Гуляндам. Сразу после окончания школы пошла она работать механизатором. Эта смуглая нежная девушка – человек необыкновенной твердости, внутренней силы… Смотрю я на умное, сосредоточенное лицо этой девушки и представляю себе...» [Сочинение на тему «Мы за партией идем, славя Родину делами» ученицы 7 «А» класса средней школы № 15 города Чарджоу Туркменской ССР // РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 41. Д. 800. Л. 222].
Однако к началу 1990-х гг. ценностная картина подрастающего поколения школьников стала меняться. По данным всесоюзного социологического опроса 1990 г. школьники уже меньше всего хотели подражать комсомольцам и коммунистам. Их кумирами и героями становились все в большей степени современники, те, кто существовал в их жизненном поле. А это, как показывали опросы, были родители (48% от числа опрошенных), певцы-исполнители современной музыки (19,6%), спортсмены (19,6%), артисты кино, театра (14%), герои книг, кинофильмов, спектаклей (12%). Примечательно и то, что 20% школьников от числа опрошенных хотели быть похожими прежде всего на самих себя [Откровенный разговор., л. 54].
Менялись ожидания школьников относительно предлагаемой им в повседневной жизни культуры чтения. Так, во второй половине 1980-х гг. стали формироваться новые читательские интересы школьников. Из писем в редакцию газеты: «Дорогая "Пионерка"! В некоторых школах и классах, у многих ребят сложилось впечатление о том, что, мол "Пионерку" читают только всякие там отличники да всякие дутые активисты. Конечно, это не так. Но все же тебе "Пионерка ", следовало бы подтянуться, подняться до уровня всех мальчишек и девчонок, доступного всем интересам – от октябрятского до комсомольского! Нужно, чтобы ты печатала не только пионерский материал, но и всякую рекламу, детективы, и те же пионерские дела, то есть, чтобы ты была разносторонней газетой, отображающей все круги любопытства и интереса… Потому что сейчас газета, я считаю, переживает переломный период, она стоит на грани новой жизни, новой моды…» [Обзор почты..., л. 17]. «Здравствуй, "Пионерка"! Неужели тебе нечего печатать, кроме того, что все знают? По-моему и ты, наш пионерский соратник и друг, должна перестроиться. С большим интересом я читаю повести К. Булычева, интересуюсь рассказами о жизни пионеров других стран, некоторыми событиями в нашей стране. Я разговаривала со многими девчонками и мальчишками и из нашего дома, и из класса. Очень много ребят любят читать то, что с большим интересом читаю и я, и взрослые… По-моему, ты станешь интереснее, если начнешь печатать только то, что интересует твоих читателей: современны песни, интересные рассказы, фантастические истории, различные события, рассказы о дружбе… Я очень хочу "Пионерка", чтобы ты стала как можно больше интересной, чтобы мои ровесники с увлечением читали тебя, а не просто приносили на политинформации. Стань интересной, прошу тебя!» [Там же, л. 18].
Повседневность взрослых, изменяясь, влияла на повседневный мир детей 1990-х гг. Традиционные ценности советской культуры, которые школа продолжала транслировать в 1980-е гг., со второй половины 1980-х гг. начали расходиться с жизненными реалиями. Так, в личных дневниках школьниц 1990-х гг. (первый дневник принадлежит ученице 7-го класса школы № 1 города Анапы Ирине В., велся ею с 18 августа 1997 г. по 2 марта 1999 г., второй дневник – ученице 10-го класса школы-лицея № 90 города Краснодара Елене Б., велся ею с 22 июня 1998 г. по 21 августа 1999 г.) отражались уже иные практики чтения, увлечений. Авторы обоих дневников демонстрируют интерес к новому периодическому изданию того времени «COOL», «COOL girl»: «Мама покупает каждый месяц " COOL " . Мне он очень нравится. Там еще есть (в каждом номере) статьи: «Школа любви». Там такое! И про секс и про все такое. Короче " COOL " - это круто!» ; «В мое отсутствие мама покупала мне журналы «COOL» и «COOL girl»… В «COOL girl» я читала рубрику «Девочка глазами мальчишек». Я узнала, что девочка должна быть: недоступной, неболтливой, одеваться только в то, что ей идет, не говорить о бывших парнях…Характер должен быть спокойным (а я ведь точно такая)» [Дневник Елены Б., с. 20]. Новые периодические издания, которые завладели подростковой аудиторией становились для школьниц значимыми трансляторами не только знаний в разных областях, но и своеобразных образов того, какими должны быть современные мальчики и девочки.
В поле повседневных практик девочек, как показывает содержание дневников, активно входила практика просмотра фильмов. В частности, в дневниках встречаются следующие записи: «Встала в 9.15. Как раз на Роксалану (речь идет о телесериале. – А.Л. )», «Сегодня О., т.е. вчера ночью, принесла кассету «История " О " (США), там такое, что противно смотреть» , «С того дня, как я приехала я смотрю по видику индийские фильмы: родной ребенок, осознание, всемогущий, артист» [Там же, с. 20]. Примечательно, что в дневниках не отразилась практика просмотра детских телепередач.
Природа увлечений девочек заключалась в собирании всякого рода информации о кумирах либо наклеек: «Начала покупать наклейки ХИТ-ПАРАД, прикольно. У нас этим заболели все девки» , «В Кургане меня сильной болезнью заразили " Любовь " Иванушек " … У меня и кассета " Твои письма " есть (речь идет о музыкальной группе «Иванушки International». – А.Л. )» [Дневник Ирины В., с. 45].
В дневниках упоминаются также игрушки и игры, которые входили в поле повседневных практик девочек: «Тамагочи», «Денди»: «Мама на Новый год подарила Тамагочи (электронного друга)», «Мой тамагочи растет. Я его кормлю и в туалет вожу» . «Я на все махнула рукой и ушла играть в «Денди (речь идет об игровой приставке. – А.Л. ) ». Поясним, что тамагочи представляли собой карманную электронную игру, внешне оформленную в виде брелка. На экране изображался крошечный инопланетянин, который по легенде создателей (фирма Bandai) не мог дышать земным воздухом и поэтому обитал в скафандре в форме яйца. Детям предлагалось заботиться о нем, так как электронный питомец мог есть, спать, плакать, болеть и даже умирать.
Таким образом, в анализируемых дневниках школьниц стали отражаться новые предпочтения, игровые практики, элементы повседневного языка коммуникации детей, сформированные под воздействием социальных и культурных перемен 1990-х гг.
Пройдет чуть больше десятилетия, и уже в наши дни, в коридоре пришкольного летнего лагеря, на одной из дверей появится девиз: «Мы – дети России, мы – дети тусовки, мы носим банда- ны, мы носим кроссовки». Неудивительно, что новые поколения школьников называют себя по-новому. В этом в очередной раз видится подтверждение того, что нет одного, универсального, детства, а есть разнообразие детского опыта, детских жизненных миров, без понимания которых будет трудно понять судьбы целых поколений.
Список литературы "Дети перестройки": жизненные миры школьников 1980-х – 1990-х годов
- Антропология советской школы: Культурные универсалии и провинциальные практики: сб. статей. Пермь, 2010. 300 с.
- Безрогов В. Г. Мир детства как мир памяти//Московское детство: память поколений. М., 2008. С. 9-15.
- Борисов С. Б. Культурантропология девичества. Шадринск, 2000. 88 с.
- Городок в табакерке: Детство в России от Николая II до Бориса Ельцина (1890-1990): антология текстов «Взрослые о детях и дети о себе». Ч. 2. 1940-1990/сост. В. Безрогов, К. Келли, А Пиир, С. Сиротина. М.; Тверь: Науч. книга, 2008. 347 с.
- Детство в научных, образовательных и художественных текстах: опыт прочтения и интерпретации: сб. науч. ст. и сообщ./сост. А. А. Сальникова. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2011.
- Илюха О. П. Школа и детство в карельской деревне в конце XIX-начале XX в. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007.
- Кон И. С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. М.: Наука, 1988. 270 с.
- Крашенинникова Т. П. Воздействие власти и общества на своеобразие «детского текста»: 1953//Детство в научных, образовательных и художественных текстах: опыт прочтения и интерпретации: сб. науч. ст. и сообщений. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2011. С. 134-138.
- Маркасова Е. В. Сочинения ученика десятого класса в школе и дома (1955/1956 учебный год)//Антропология советской школы: Культурные универсалии и провинциальные практики: сб.статей. Пермь, 2010. С. 110-117.
- Ребенок в истории и культуре: Тр. семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 4/под ред. А.С. Обухова, М.В. Тендряковой. М.: Researcher, 2010. 520 с.
- Рожков А. Ю. В кругу сверстников: жизненный мир молодого человека в советской России 1920-х гг.: в 2 т. Краснодар: Перспективы образования, 2002. Т. 1. 408 с.
- Сальникова А. А. Детское письмо и его специфика//Детство в научных, образовательных и художественных текстах: опыт прочтения и интерпретации: сб. науч. ст. и сообщ. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2011. С. 116-123.
- Сальникова А. А. Российское детство в XX веке: История, теория и практика исследования. Казань, 2007. 256 с.
- Kelly C. Children's World: Growing Up in Russia, 1890-1991. New Haven; London: Yale University Press, 2007. 736 p.