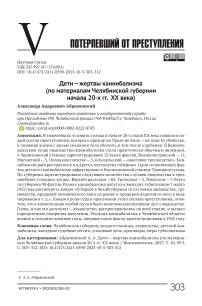Дети - жертвы канибализма (по материалам Челябинской губернии начала 20-х гг. ХХ века)
Автор: Абрамовский А.А.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Потерпевший от преступления
Статья в выпуске: 3 т.10, 2023 года.
Бесплатный доступ
В тяжелейших условиях голода в начале 20-х годов ХХ века появился новый состав преступления, которого прежде на Урале не было - не просто убийство, а лишение жизни с целью съедания тела убитого, в том числе и ребенка. В Верхнеуральском уезде людоедство (каннибализм) стало практически обычным явлением, в Черниговской станице зарегистрировано 13 таких фактов, Великопетровской - 11, Магнитной - 5, Полоцком поселке - 5, в Кизельской - «массовое трупоедство». Каннибализм распространился и в других местностях губернии. Один из вопиющих фактов детского каннибализма зафиксирован в Наследнинской станице Троицкого уезда. По губернии зарегистрировано следующее количество случаев людоедства в трех наиболее голодных уездах: Верхнеуральском - 84, Троицком - 5, Миасском - 7. Всего по губернии 98 фактов. Размах каннибализма напугал и вынудил губисполком 7 марта 1922 года рассмотреть вопрос «О борьбе в Челябгубернии со случаями людоедства, трупоедства, продажей человеческого мяса на рынке и продажей изделий из него в виде пирожков и т. д.». Говоря о роли суда в пресечении этого состава преступления, отметим, что в компетенцию особой сессии было включено рассмотрение дел о людоедстве. Голод, и как его результат - людоедство, распространились по всей стране, и вызвал определенное озверение населения. Рецидив каннибализма в Челябинской области возник в голодные военные годы, впервые такие факты зарегистрированы в 1943 году.
Челябинская губерния, уезды и станицы, людоедство, детский каннибализм, выездные судебные сессии, уголовные дела, приговоры, меры губисполкома
Короткий адрес: https://sciup.org/14129346
IDR: 14129346 | УДК: 347.992 | DOI: 10.47475/2411-0590-2023-10-3-303-312
Текст научной статьи Дети - жертвы канибализма (по материалам Челябинской губернии начала 20-х гг. ХХ века)
Каннибализм (антропофагия)—древний, сложный, недостаточно полно изученный, поликультурный феномен, затрагивающий различные области и сферы человеческой жизнедеятельности, происходящий во многом из отклонений в развитии, физиологии и психологии, основным проявлением которого является употребление в пищу с различными целями органов и тканей мертвого или живого человека [7, с. 112].
В тяжелейших условиях голода в начале 20-х годов ХХ века появился новый состав преступления, которого прежде на Урале не было — не просто убийство, а лишение жизни с целью съедания тела убитого. «Это вызвало новое явление… 2. Глухо в народе шла молва о страшном безнравственном преступлении— о людоедстве. 3. Большинство людей, конечно, этого делать не могли, умирали от голода… люди ели… человечину, своих детей, чужих детей, трупы»,— официально признавало это криминальное явление верхнеуральское советское руководство [4, с. 240–241]. «Трупоедство и людоедство наблюдается по всем уездам губернии. Случаев людоедства по официальным данным только по одному Верхнеуральскому уезду насчитывается 42. Несомненно, что в действительности их было больше»,— констатировалось в одном из партийно-советских документов [18, с. 46]. Вследствие отсутствия возможности добыть себе пропитание, возникли случаи каннибализма и трупоедства.
В научной литературе выделяют различные формы каннибализма: «вынужденный (которому предшествует убийство, расценивается в психиатрии как проявление так называемого голодного помешательства); бытовой (отличается мотивацией желания; относится к лицам с психическими расстройствами, главная цель которых— собственная поглощенность сверхценной идеей); криминальный каннибализм (первопричина обычно — криминальное поведение или все-таки желание поедать человеческую плоть); религиозно-ритуальный (основывается на идеологических соображениях; существует в примитивных племенах, некоторых сектантских учениях)» [11, с. 25]. Несмотря на предложенную квалификацию, полагаем рассмотреть вынужденный каннибализм с позиции криминальной оценки данного явления в 20-е годы прошлого столетия.
Материалы и методы
Объектом исследования является реализованная массовая криминальная виктимность жертв каннибализма, отраженная в официальной статистике местных органов власти и правоохранительных структур.
Предметом исследования выступают состояние и социальная структура самих жертв людоедства.
Цель исследования определить причины состояние, тенденции реализованной криминальной виктимности жертв—детей от каннибализма.
Задачи исследования :
-
— оценить и описать состояние реализованной массовой криминальной виктимности детей— жертв каннибализма;
-
— описать причины массового каннибализма детей в Челябинской губернии;
-
— установить меры государственных структур по борьбе с данным криминальным явлением.
Методология и методы исследования. Методология включает следующие методы: системно-структурный анализ, метод типологии, метод актуализма, сравнительный метод, конкретно-исторический анализ, формально-юридический метод.
Эмпирической базой исследования выступают официальные статистические данные вековой давности о количестве потерпевших от данного преступления в Челябинской губернии, а также официальные протоколы заседаний губ-уезд исполкомов и конкретные судебные приговоры и материалы уголовных дел.
Теоретической основой исследования являются труды российских ученых, не только чистых историков, но и правоведов в области как общей истории, так и криминологии и виктимологии.
Территориальные и хронологические рамки исследования. Территориальные рамки исследования ограничиваются границами Челябинской губернии, вошедшей в число субъектов наиболее голодающих, а поэтому и криминальной. Проводится сравнительный анализ криминогенной обстановки с соседними южноуральскими губерниями. Хронологические рамки исследования ограничиваются 1921–1923 гг.— пиком массового голода на Южном Урале.
Процесс и результаты проведенного исследования
Анализ эмпирического материала позволяет привести ряд фактов, свидетельствующих о распространении каннибализма в Челябинской губернии в рассматриваемый период. Так, начальник 4-го района милиции Сопрыкин в феврале 1922 года докладывал в Верхнеуральское горуездное управление: «Станицы Куликовской в пос. Астафьевском местными гражданками Бахтеевой Анастасией, Васильевой Александрой, Васильевой Феклой в январе месяце сего года первое— была съедена девочка 2 лет, умершая дочь Васильевой, второе— зарезали мальчика 12 лет… Федора Бахтеева— сына
Анастасии Бахтеевой, третье—удушили женщину, гражданку Парижского поселка. Все преступления совершены на почве голода, трупы зарезанных и удушенных съели, а кости выбросили, в преступлениях своих сознались» [10, с. 99]. Другой его рапорт: «Часов в 7 вечера сего числа гражд. гор. В-Уральска Иван Лобанов заявил Уголовному розыску о загадочном исчезновении сына Николая 10 лет. Командируя тотчас же агента и двух милиционеров на розыск мальчика, розыском обнаружена потрясающая душу картина. В доме гражданки Матрены Токаревой отыскиваемый обнаружен уже зарезанным, тело разделено на части и спрятано, обе руки и внутренности съедены Токаревой и ее детьми. При наличности улик, после некоторого запирательства мегера-людоедка в совершенном злодеянии созналась и вместе с частями тела и головою убитого доставлена и арестована» [4, с. 242].
Информация его коллег из уездного ОГПУ: «Здесь население дошло до людоедства, трупоедства и совершенной потери человеческого образа жизни». За первые четыре месяца только чекисты зафиксировали 56 фактов людоедства, а трупоедство было распространено шире. Ежедневно хоронили по 150 человек, хотя умерших насчитывалось больше [14, с. 373]. «За август месяц зарегистрировано всего 86 случаев людоедства», — отмечала уездная помгол (комиссия помощи голодающим) [4, с. 243].
Аналогичная информация зафиксирована и другими чиновниками: «1921 год был годом великой голодовки, — вспоминал председатель одного из сельсоветов Верхнеуральского уезда А. Л. Нестеров, — Людям приходилось есть кошек и собак, местами доходило до людоедства, но кра-дучи» [15, с. 108].
В Верхнеуральском уезде людоедство (каннибализм) стало практически обычным явлением, в Черниговской станице зарегистрировано 13 таких фактов, Великопетровской — 11, Магнитной — 5, Полоцком поселке— 5, в Кизельской — «массовое трупоедство» [6, с. 58–59]. О последней имеется еще несколько свидетельств. «Людоедство и трупоедство было по всему уезду и в городе. В Кизельской станице, например, была раскрыта шайка людоедов 306
в 12 человек, такая же шайка была и в поселке Тайсара», — писала местная газета «Советская правда» [5, с. 189]. «В станице Кизильской, — отмечалось в другом документе того времени, — проводится хищение трупов с кладбищ, а также из могил, что подтверждается актом… в станице Амурской семья съела трех своих умерших детей и двух зарезала» [12, с. 99].
Члены Верхнеуральской комгол (комиссия по борьбе с голодом) в общей информации о положении дел в уезде вынуждены были ввести новый раздел «Голодные преступления». «Одновременно с голодной смертью,— говорилось в этом документе, — на почве голодания получили значительное развитие различные специфические формы голодной преступности: самоубийства, вызванные голодом (это удивительно, потому что самоубийства, только при Петре I в начале XVIII века являлись криминальными деяниями — Авт. ), убийства членов семьи в целях облегчения от голодных мучений или с целью оставления живым больших продовольственных запасов, убийства с целью грабежа, голодные кражи, трупоедство, людоедство» [4, с. 243].
Каннибализм распространился и в других местностях губернии. Один из вопиющих фактов детского каннибализма зафиксирован в Наследнинской станице Троицкого уезда: «В феврале месяце 1922 года ежедневно умирает по 10–20 человек. Трупы убирать некому, настроение населения паническое. Собаки, кошки съедены. Развивается людоедство. 19 февраля в поселке Наследнинском выяснено, что гражданки Прасковья и Елена Новиковы зарезали трех детей в пищу, взяв их из детской столовой под видом согреть их у себя дома. Масса случаев убийств своих детей»,— констатировалось в одном из докладов местного исполкома совета [1, с. 56].
Так, в одном из советских отчетов (без указания за какой конкретный временной период) зафиксировано: «В общем, людоедство получило в губернии довольно широкое распространение… По губернии зарегистрировано следующее количество случаев людоедства в 3-х наиболее голодных уездах: В-Уральском— 84, Троицком—5, Миасском—7. Всего по губернии 98» [4, с. 243].
Размах каннибализма напугал и вынудил губисполком 7 марта 1922 года рассмотреть вопрос «О борьбе в Челябгубер-нии со случаями людоедства, трупоедства, продажей человеческого мяса на рынке и продажей изделий из него в виде пирожков и т. д.». Помимо устных сообщений на заседании рассматривались и документы об этом явлении из Верхнеуральского уездного исполкома, управления Троицкой милиции, Лейпцигского станисполко-ма и Требиатского сельсовета. Полный текст постановления высшей региональной исполнительной власти, как не редко бывало, затрагивавший интересы мирового пролетариата, гласил: «По заслушивании небывалого еще в истории края доклада не только о съедании человека человеком на почве абсолютной голодовки и психоза, а даже может быть на почве намеренно-злостного использования с корыстной целью человеческого мяса как продукта питания, президиум губисполкома пришел к выводу о необходимости немедленного принятия мер борьбы с этим небывалым чрезвычайным явлением, вызванным жестоким голодом, невменяемостью тяжелострадающих от него и отчасти по другим еще неизвестным и невыясненным причинам, постановил: 1. Немедленно по телеграфу обратиться ВЦИК за руководящими указаниями по борьбе с людоедством. 2. Всех лиц, уличенных в людоедстве, и преступлениях, с людоедством связанных, немедленно сконцентрировать в гор. Челябинске в целях их изоляции из среды населения, что губюсту предлагается осуществить без замедления. 3. Предложить губюсту срочно выработать инструкцию специально о порядке ведения расследования случаев и других с ним связанных. 4. Запросить Уральский государственный университет, не найдет ли он возможным взять на себя всестороннее изучение этого вида преступлений и преступников, как типов с медицинской стороны. 5. Подлинные акты, протоколы, постановления или их копии всякого рода другие материалы, свидетельствующие о фактах людоедства, детоедства, трупоедства, купли и продажи мяса человека и продажи из него изделий, а также фотографические снимки, зафиксировавшие людоедство, обязательно должны препровождаться в гор. Челябинск в губ-компомгол, как неоспоримый материал, доподлинно указывающий на колоссальные размеры голода и на его страшные последствия включительно до употребления матерями в пищу собственных детей. Ком-помголу предлагается весь поступающий материал в копиях сдать в центр на предмет информации пролетариата всего мира об ужасах и последствиях голода в России» [21, с. 286–287].
Это решение вызывает некоторые комментарии.
Во-первых, растерянность местной власти размахом людоедства и отсутствием руководящих указаний Москвы по борьбе с ним. С этим связан и второй момент. Челябинск должен был стать центром сосредоточения уже установленных реальных людоедов (каннибалов). А где их содержать, как и чем кормить? Лишать их свободы по действующему законодательству было невозможно. Более того, эти субъекты, находившиеся в судебном процессе в качестве подсудимых оправдывались. «Ввиду того, что обвиняемая Федосия Семенова участия в убийстве не принимала, что она употребила человеческое мясо для утоления голода с целью сохранить жизнь и совершенно бессознательно, постановили: настоящее делопроизводство прекратить, освободив обвиняемую от наказания, о чем ей и объявить»,— решила 15 августа 1922 года особая сессия при губсовнарсуде, высшем региональном установлении. Отметим, что по этому делу привлекались А. Коравлева, убившая и съевшая свою дочь, и ее соучастница Н. Кораблева. Приговор нам неизвестен, а Семенова, повторим, за поедание тела маленькой девочки вышла на свободу [21, с. 295–296]. Кроме того, по задумке губисполкома с людоедами должны работать психологи по методике, разработанной екатеринбуржцами. Возможно ли это было в то время? И последнее, с современных позиций вызывает уважение та смелость, с которой челябинцы о реалиях «ужаса голода» хотели проинформировать «пролетариат всего мира».
Говоря о роли суда в пресечении этого состава преступления, отметим, что в компетенцию особой сессии включалось рассмотрение дел о людоедстве. Имеется общая оценка челябинской губернской судебной власти: «На почве голода были дела о людоедстве, но с изжитием голода этой категории дел нет. По этой же причине, а также по причине не укоренившегося на местах авторитета суда стали расти самосуды, но своевременно принятыми мерами волна самосудов была остановлена и в данный момент мы имеем самосуд, как редкое явление» [16, л. 120].
Чтобы не возбуждать дальнейших отвратительных эмоций у читателя приведем только один конкретных судебный материал об южноуральских преступниках-каннибалах, имевшийся в деле под названием «Акты и протоколы дознаний о случаях людоедства в Златоустовском уезде за октябрь — ноябрь 1922 года». Девочка Мария Стропченко, проживавшая в Симском заводе, 29 января 1922 года заявила в угрозыск, что вчера ее 14-летний брат Федор с товарищем 15-летним Ростиславом Бочкаревым заманили в их квартиру в д. № 37 по ул. Монастырской юношу Кузнецова, которого «убили топором, после чего, отрезав ему руки, сварили их и съели». На следствии Бочкарев показал, что они со Стропченко голодали, «ловили собак и ели их мясо, а когда им подвернулся мальчик, решили для той же цели убить и его». «С убитого мальчика они сняли шубу, пимы, фуфайку, кальсоны, рубашку и коралловый на серебряной цепочке крест, помимо одежды у мальчика было 6 аршин шелковой материи, 3 арш. ленты и серебряные вещи: чайные ложки, вилки, ситечко и щипцы… Бочкарев пошел на базар с пимами Кузнецова, которые и продал за 80 000 рублей и купил три фунта лебеды, 5 кусков холодного (возможно, холодец— Авт. ), керосину и 1 коробку спичек… Дело передано в суд»,— цитирует нам материалы дознания краевед И. Непеин. Приговор нам неизвестен, но должны сказать, что второй людоед до суда не дожил — «Федор Стропченко умер, будучи помещен в детскую милицию» [4, с. 244–246].
В соседнем Казахстане, северная часть которого (Кустанайский уезд) входила в Челябинский регион, также имелось это явление. «К концу 1921 — началу 1922 г. голодали только по Казахсой ССР 1309 тыс.
человек. Отмечены были случаи людоедства, и самое страшное — люди поедали своих детей»,— отмечают исследователи И. В. Лот-кин и А. П. Ярков [10, с. 226].
Голод, и как его результат—людоедство, распространились по всей стране, и вызвал определенное озверение населения. «В архивах хранится документ: группа граждан в голодном 1921 году попросила официального разрешения у областного военкомата, исполкома… убить своих детей, чтобы их съесть. Пройдет чуть больше десяти лет. Людоедство станет массовым»,— отмечала газета «Комсомольская правда» в 1990 году. И далее данное периодическое издание приводит следующий рассказ: «У меня была соседка — Мороз Елена, жила рядом. Она на костылях ходила. Соседка как соседка, нормальная, и мальчик у нее был маленький, и сестра была, жила в другой хате. Вхожу я к соседке однажды, а мальчонок ее, ему уже года два было, ест кусок мяса, белое такое. Она это мясо быстренько завернула, кинула на печь и говорит — это я в Верховенке горяченького купила. Мне и в голову не пришло— разве догадаешься о таком? Она резала детей, сама ела и на базаре продавала.
Однажды заманила она к себе Марусю. Иди сюда, говорит, доченька, я тебе косточки вымою, я тебя угощу, иди, иди… Отрезала ей голову, начала уже есть эту девочку Марусю, а дед копался в огороде, все это слышал и видит, не выходит Маруся. Нет и нет. Позвал людей, председателя, пошли к Евгении, а там одни косточки, да мясо, да ленточки цветные на волосах. Убрали все в коробочку, Евгению и ее сестру, которая помогла ей, тоже людоедкой была, отвели в сельсовет. Там Катерина, мать той девочки загубленной, опухшая. Еле пришла. Так давай эту Евгению палкой, только сил нет, чтобы ударить. Да, а у сестры людоедки тоже недавно ребеночка не стало. Так потащили ее на кладбище, могилку разрыли, чтобы удостовериться, не съела ли она и своего. О господи, боже ты мой… Отвезли их в район, и там закопали, говорят, живыми закопали, еще земля ворочалась, кричали они, звали, а мальчика ихнего, двухлетнего, с ними закопали»1.
Комсомольская правда. 1990. 3 февраля.
Вполне естественно, советское правительство пыталось предпринимать меры помощи голодающим регионам, но параллельно с этим в марте 1922 года Ленин ставил и другие задачи в условиях людоедства и трупоедства [9], обращение церковного имущества в пользу закупа продовольствия для голодающих [3].
История человечества показывает, что каннибализм был достаточно распространен среди населения на разных этапах становления общества, нехватка пищевых ресурсов в суровых условиях жизни объясняет вынужденный каннибализм.
Очевидно, что каннибализм является общественно опасным деянием, посягающим на такой объект уголовно-правовой охраны, как общественная нравственность. Тем не менее действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее —УК РФ) прямо не предусматривает уголовную ответственность за убийство человека с целью последующего употребления в пищу частей его тела (организма).
Действующее уголовное законодательство предусматривает квалификацию деяния связанного с каннибализмом как убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего в совокупности с надругательством над телами умерших (п. «м» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 244 УК РФ); если же части тела поедались, пока жертва еще была жива (антропофагия, после которой акта каннибализма не последовало), это убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) [11, с. 26].
Краткие выводыпо результатам исследования
Проведенное нами исследование эмпирических источников вековой давности, где жертвами каннибализма были дети, позволяет сформулировать следующие выводы:
Во-первых, в указанный период произошло гипертрофическое увеличение криминальной виктимности жертв каннибализма в Челябинской губернии, что свидетельствует об общем обострении криминогенной обстановки региона.
Во-вторых, детей можно выделить в особую незащищенную криминальную виктимную группу как жертв каннибализма в то время, даже их родители становились каннибалами своего потомства.
В-третьих, можно заявить, что партийно-советские органы практически ничего не предпринимали по ослаблению криминогенной обстановки, связанной с защитой детей от криминального и вынужденного каннибализма.
Уральский исследователь А. В. Бакунин приводит цитату из книги Волкогонова: «Вряд ли известны факты в истории какой-либо страны, когда люди, чтобы не умереть от голода занимаются трупоедством и людоедством, а правители в это время народные деньги сотнями миллионов отправляют за границу, чтобы развязать там гражданскую войну во имя своего мирового господства» [2, с. 242–243].
Проблема людоедства была актуальной на всех этапах развития истории. Наибольшую популярность она обрела в наше цивилизованное время, в которое данное деяние наиболее сильно осуждается нормами морали и нравственности. Каннибализм необходимо рассматривать с точки зрения нравственности, которая выступает в качестве одной из основ уголовного закона, именно она является средством обеспечения существования всего общества в целом. Следует поддержать тех исследователей [7; 8; 11; 17], которые неоднократно высказывались о том, что необходимо введение отдельной нормы в УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за канни- отличающегося высокой степенью обще-бализм, как особый вид преступления, ственной опасности данного деяния.
Список литературы Дети - жертвы канибализма (по материалам Челябинской губернии начала 20-х гг. ХХ века)
- Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Продразверстка в Челябинской губернии (август 1919 г. — март 1921 г.) // Оренбургской казачье войско. Поиски. Находки. Открытия: сборник научных статей / под ред. А. П. Абрамовского. Челябинск: Челяб. гос. ун-т 1999. С. 38–58.
- Бакунин А. В. История советского тоталитаризма. Кн. 1. Генезис. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1996. 224 с.
- Боже В. С. Материалы к истории церковно-религиозной жизни Челябинска. 1917–1937 гг. // Челябинск неизвестный: краевед. сб. / сост. В. С. Боже. Челябинск, 1998. С. 107–180.
- Врата Рифея: [Сб. материалов о Челяб. крае / ред.-сост. Боже В. С. и др.]. Москва: Московский писатель ; НОСТА, 1996. 488 с.
- Галигузов И. Ф., Баканов В. П. Станица Магнитная. От казачьей станицы до города металлургов. Магнитогорск: Магнитогорское полиграфическое предприятие, 1994. 397 с.
- Каминский Ф. А. Оренбургское казачество в первые годы Советской власти (1921–1926). Магнитогорск: Изд-во Магнитог. гос. муз.-пед. ин-та, 1996. 149 с.
- Киселева А. П. Антропофагия (каннибализм): уголовно-правовые аспекты // Via Scientiarum — Дорога знаний. 2015. № 4. С. 111–114. EDN: WAKLDX.
- Костиков С. А., Лесовников М. И. Каннибализм как явление в криминологии и праве // Дневник науки. 2022. № 6 (66). DOI: https://doi.org/10.51691/2541-8327_2022_6_6. EDN: CFTCZP.
- Латышев А. Г. Ленин: первоисточники. Москва: Март, 1996. 47 с.
- Лоткин И. В., Ярков А. П. Об антикоммунистических восстаниях 1920–1922 годов // Архив в социуме — социум в архиве: материалы четвертой Всероссийской научно-практической конференции (Челябинск, 22–23 сентября 2021 года). Челябинск, 2021. С. 221–227. EDN: JVKKPS.
- Маринкин Д. Н., Савицкая А. А. Особенности уголовной ответственности за каннибализм на территории Российской Федерации // Вестник Прикамского социального института. 2020. № 2 (86). С. 24–29. EDN: KAOEGP.
- Милиция Челябинской области. 1802–2002. Страницы истории / В. И. Майоров, В. С. Кобзов, С. Ю. Салмина [и др.] ; ред. сост. Смирнов Д. В. Челябинск, 2002. 446 с.
- На защите экономической безопасности государства. 1937–2007. авт.-сост. Д. В. Смирнов, Л. Б. Коган. Москва: Книга, 2007. 416 с.
- Нарский И. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. Москва: РОССПЭН, 2001. 613 с.
- Нестеров А. П. Хроника простой жизни // Гостиный двор. № 9. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2000. С. 105–111.
- ОГАЧО. Ф. 135. Д. 30.
- Приходько Е. Г. Проблемы уголовной ответственности за каннибализм // Инновационные процессы в научной среде: материалы Международной (заочной) научно-практической конференции (Прага, Чехия, 15 июня 2019 года). Прага, Чехия: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич), 2019. С. 296–302. EDN: ZSHBJB.
- Салмина С. Ю. Прокуратура Челябинской области. Очерки истории. Челябинск: Каменный пояс, 2001. 345 с.
- Трифонов А. Н. Продовольственная проблема в городе Свердловске и пути ее решения в годы войны // Урал в 1941–1945 годах: экономика и культура военного времени: (к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне): материалы регионального научного семинара (Челябинск, 10 апр. 2005 г.) / отв. ред. А. А. Пасс. Челябинск Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2005. С. 157–169.
- Хисамутдинова Р. Р. Материальное положение колхозников Урала в годы Великой Отечественной войны // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2000. № 2 (17). С. 163–175. EDN: SYFHKF.
- Челябинская губерния, 1919–1923 гг.: абрис истории. Сборник документов. Редакционная коллегия: И. И. Вишев и др. Челябинск. 2019. 647 с.