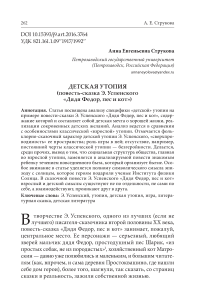Детская утопия (повесть-сказка Э. Успенского "Дядя Федор, пес и кот")
Автор: Струкова Анна Евгеньевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Татья посвящена анализу специфики «детской» утопии на примере повести-сказки Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», содержание которой и составляет собой детская мечта о хорошей жизни, реализации сокровенных детских желаний. Анализ ведется в сравнении с особенностями классической «взрослой» утопии. Отмечается фольклорно-сказочный характер детской утопии Э. Успенского, «сверхпроводимость» ее пространства; роль игры в ней; отсутствие, например, постоянной черты классической утопии - безгеройности. Делается, среди прочих, вывод о том, что социальная структура общества, главная во взрослой утопии, заменяется в анализируемой повести знакомым ребенку течением повседневного быта, который организует бытие. Особое внимание в статье уделяется полному символического смысла эпизоду с солнцем, которое героям подарили ученые Института физики Солнца. В сказочной повести Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот» взрослый и детский смыслы существуют не по отдельности, не сами по себе, а взаимодействуют, проникают друг в друга.
Э. успенский, утопия, детская утопия, игра, литературная сказка, детская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/14748996
IDR: 14748996 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.216.3764
Текст научной статьи Детская утопия (повесть-сказка Э. Успенского "Дядя Федор, пес и кот")
В творчестве Э. Успенского, одного из лучших (если не лучшего) писателя-сказочника второй половины ХХ века, повесть-сказка «Дядя Федор, пес и кот» занимает, пожалуй, центральное место. Ее персонажи — серьезный, любящий зверей мальчик дядя Федор, простодушный пес Шарик, «из простых собак, не из породистых»1, хозяйственный кот Матроскин — давно уже полюбились и маленьким, и большим читателям (как, впрочем, и сама деревня Простоквашино, где нашли себе дом герои), более того, шагнули, так сказать, со страниц сказки в реальность, зажили собственной жизнью.
Первое и общее впечатление от этой повести-сказки Э. Успенского — перед нами утопия, причем утопия детская. Размышляя над смыслом слова «утопия», Т. А. Чернышева справедливо замечает: «И что бы ни имел в виду Т. Мор, и как бы ни изощрялись в трактовке этого слова специалисты, с этим понятием прочно срослось представление о некоем идеале, мечте (“хорошее место”), но мечте нереальной, неосуществимой, почти фикции (“место, которого нет”). Недаром в бытовом словоупотреблении слово утопия соотносится с понятиями “миф” и “сказка”» [6, 304].
Именно мечта о хорошей жизни, представляющая собой реализацию сокровенных детских желаний (стать «взрослым», причем, «взрослым» по-детски, делать то, что интересно, чувствовать гармонию мира — хотя ребенок этих слов пока не знает, но уют, любовь и нежность он прекрасно чувствует), и составляет собой содержание повести-сказки Э. Успенского. «Деревня красивая. Кругом лес, поля и речка недалеко. Ветер дует такой теплый, и комаров нет» (405). Одновременно Простоквашино — это не только «хорошее место», но и «место, которого нет», ибо не бывает деревни без комаров, а коты и собаки не говорят (и ребенок это знает) на человеческом языке. Мир Простоквашино — это мир не только утопический, но и сказочный.
Чем же отличается «взрослая» утопия от «детской»?
Главной приметой классической «взрослой» утопии служит, как известно, изображение некоего, в той или иной степени совершенного, социального устройства общества. «Главным в утопии является… поиск такого устройства общественного бытия, при котором достигается счастье или, по крайней мере, благоденствие всех членов общества» [6, 306–307]. По замечанию составителя антологии утопической литературы В. А. Ча-ликовой, «утопия — это подробное и последовательное описание воображаемого… общества, построенного на основе альтернативной социально-исторической гипотезы» [5, 8].
Естественно, в детской утопии такого «подробного и последовательного» изображения социального устройства общества нет и не может быть. А если оно и появляется, то лишь сугубо во «взрослом» плане содержания текста, который не заметит (и не должен заметить) ребенок. Так, например, взрослый читатель второй части трилогии Н. Носова о приключениях Незнайки «без труда угадает <…> в названии переформулированное “Город Солнца”. Перекличка с утопией Томаса Кампанеллы здесь очевидна. Ведь перед читателем не просто город технократического будущего, а модель общественного устройства» [4, 241].
У Э. Успенского взрослый и детский смыслы повести существуют не по отдельности, не сами по себе, как у Н. Носова, а взаимодействуют, проникают друг в друга.
Бросается в глаза, что в повести-сказке «Дядя Федор, пес и кот» социальной организации общества как бы и не существует. Нет «представителей власти»; не нужна прописка на новом месте жительства; дом достается героям совершенно бесплатно, они его просто выбрали: «— Сейчас будем дом выбирать. <…> Осмотрели они дом и обрадовались. Все в доме было. И печка, и кровати, и занавесочки на окнах! И радио, и телевизор в углу <…> И в огороде все было посажено… а в сарае удочка была» (407, 408); после ухода сына из дома мама и папа дяди Федора не обращаются в соответствующие органы, а лишь, поступая, так сказать, частным образом, дают объявление в газету. Отсутствие сведений о социальной структуре мира, где живут герои, не случайно — ведь и читатель-ребенок не имеет (и не желает иметь) эти сведения, они ему пока ни к чему. Изображение социальной структуры заменяется у Э. Успенского рассказом, точнее, показом прочности каждодневных форм быта, хорошо знакомых ребенку. Эти формы организуют жизнь героев и в городе, и в Простоквашино. Повседневные хлопоты, задушевные разговоры, споры кота и пса, письмо родителям, — все представляется незыблемым, как восход и заход солнца.
Социальная структура общества, главная во взрослой утопии, заменяется знакомым ребенку течением повседневного быта, который организует бытие, а иногда поднимается до его высот: «— И я тоже нормально жил. Серединка на половинку, — говорит дядя Федор. — Только теперь мы будем по-другому жить. Мы будем жить счастливо» (417).
Полную реализацию (кульминацию) утопическое начало получает в сценах с солнцем, которое нашим героям подарили ученые Института физики Солнца. Солнце — это и бытовой научно-фантастический прибор, освещающий и обогревающий жилище, и одновременно — символ утопии. Внешне это выглядит похожим на утопические аллюзии в «Приключениях Незнайки в Солнечном городе», но у Н. Носова, как мы уже отмечали, эти аллюзии замкнуты во взрослом плане содержания произведения, они сугубо рационалистичны, основаны на словесной перекличке и изображении социальной модели общества. У Э. Успенского «взрослое» и «детское» слиты воедино, поэтому символика оказывается бытовой, а быт — символичным, и апеллирует он не к взрослой рациональности, а к детской эмоциональности (которая может сохраняться в любом возрасте и входит в понятие «детскость» (см., напр.: [3, 111–114])). Когда включили солнце, «все в доме ожило. И цветы к солнцу потянулись, и бабочки откуда-то выбрались. И теленок Гаврюша стал скакать, как на лужайке.
А на дворе сырость, холод и слякоть. Скоро зима подойдет. Их домик с улицы так и светится, как игрушечный. <…>
С тех пор у них очень хорошая жизнь началась» (487).
Перед нами — утопия, причем детская. Не случайно свой подарок ученые сами (в прилагающейся записке) называют так: «солнце маленькое, домашнее (курсив мой. — А. С .)» (486). Это солнце и есть маленькая (детская) домашняя утопия.
Еще одна постоянная черта классической утопии — без-геройность — отсутствует в утопии детской. По словам Т. А. Чернышевой, «в утопии речь идет не о судьбах отдельных героев (классическая утопия по сути дела безгеройна, ибо наблюдателя-путешественника, ведущего рассказ, трудно назвать таковым), а о судьбе социума в целом, об общих принципах организации жизни людей» [6, 307]. Безгеройное повествование неинтересно читателю-ребенку, и в повести-сказке Э. Успенского именно судьбы (прошлое, настоящее и будущее) дяди Федора, пса и кота, их противостояние проискам почтальона Печкина захватывают внимание ребенка, и повествование об общих принципах жизни людей заменяется изображением, как мы уже отмечали, устойчивых, повседневных форм этой жизни.
С безгеройностью связаны и описательность, и некоторая пассивность классической утопии. В какой-то мере это есть и у Э. Успенского, но в значительно меньшем объеме, чем во взрослой утопии. Дело в том, что в мире устойчивого быта (и бытия) катастрофических, серьезных изменений быть (как и во взрослой утопии) не может, но детское сознание на фоне этой устойчивости любую мелочь превращает в событие: «Посмотрите, что я нарисовал!» — обращается малыш к родителям, а потом долго радуется и всем рассказывает о своем успехе. Так и в сказочной повести Э. Успенского любая мелочь превращается в достойное большого внимания и интересное событие: и поведение Шарика во дворе, и их споры с котом Матроскиным, и доставка посылки и т. д. Так преодолевается пассивность утопии.
Любопытно отметить, что фантастическая литература (от И. Ефремова и братьев Стругацких до современных авторов), обращаясь к утопическому изображению будущего, неизменно ищет способы преодоления изначальной утопической пассивности. Так обстоит дело, скажем, в романе И. Ефремова «Туманность Андромеды», в котором «главы, относящиеся к разным планам (утопическому и приключенческому, связанному с космическим путешествием звездолета “Тантра”. — А. С .), чередуются, и получается, что утопическая ткань повествования о будущем “прошивается” красной нитью динамичного сюжета: утопия “прошивается” сказкой» [2, 171].
В детской утопии Э. Успенского есть особенность, которая, как правило, отсутствует в утопии взрослой, ибо она носит не утопический, а фольклорно-сказочный характер. (Напомним, что именно на поэтику фольклорной волшебной сказки опирается сказка литературная.) Эту, «одну из основных черт внутреннего мира сказки», Д. С. Лихачев определяет так: «малое сопротивление в ней материальной среды, “сверхпроводимость” ее пространства» [1, 385].
В повести-сказке «Дядя Федор, пес и кот» пространство «сверхпроводимо». Д. С. Лихачев далее пишет: «В русской сказке сопротивление среды почти отсутствует. Герои передвигаются с необыкновенной скоростью <…> Препятствия, которые встречает герой по дороге, — только сюжетные, но
Детская утопия (повесть-сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот») 267 не естественные, не природные. Физическая среда сказки сама по себе как бы не знает сопротивления. <…> Герой отправляется в путь и достигает цели без усталости, дорожных неудобств, болезни, случайных, не обусловленных сюжетом попутных встреч и т. д.» [1, 386].
В сказочной повести Э. Успенского это именно так. Открывающее действие путешествие дяди Федора в компании с котом, по сути дела, в неизвестность, случись оно в реальности, было бы и трудным, и тяжелым, много раз могло бы закончиться плачевно, и наверняка бы не привело их в сказочное Простоквашино.
Иногда совпадение с народной сказкой оказывается буквальным. Героям сказочной повести понадобилось купить корову (ведь коты любят молоко).
«— Надо бы, — соглашается дядя Федор. — Да где денег взять?» (411). Матроскин и Шарик тут же затевают спор — кого из них можно продать? Дядя Федор вмешивается: «— Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. — Ура! — кричит Шарик. — Давно пора!» (412).
Герои отправляются в лес, находят поляну, где «земля вон какая мягкая — один песок» (413) и выкапывают сундук. Приходят домой, смотрят — «очень много денег в сундуке. Не только корову — целое стадо можно купить вместе с быком. И они решили, что каждый себе подарок сделает. Что хочет, то и купит» (415). Герои у Э. Успенского поступают точь-в-точь как герои фольклорной волшебной сказки. Д. С. Лихачев пишет: «Деньги добываются в сказке не трудом, а случаем: кто-то указывает герою вырыть их из-под сырого дуба (Афанасьев, № 259)» [1, 387].
Стоит заметить, что в повести-сказке Э. Успенского «сверхпроводимость» обнаруживается не только в физической, но и в социальной среде (хотя бы потому, что характеристика устройства социума отсутствует).
И, наконец, еще одна особенность детской утопии Э. Успенского, которая в утопии взрослой факультативна: детская утопия не может существовать без игры, ибо «хорошее место» без игры в глазах ребенка-читателя не может быть «хорошим». Поэтому мы можем рассматривать утопический мир повести-сказки Э. Успенского как игровой мир, точнее, как мечту ребенка о таком мире.
Это относится, прежде всего, к героям сказочной повести. Ее герои — дети. И они играют в самую интересную для ребенка игру — «во взрослых». Не случайно все обитатели утопического Простоквашино обладают детскими характерами, даже почтальон Печкин, представляющий известную в детской литературе (и в жизни) фигуру «злого соседского мальчишки», вредного и любопытного, ведь и главная мечта почтальона Печкина — сугубо детская. Он говорит маме и папе: «— Спасибо вам! Я почему нехороший был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. И какую-нибудь зверушку заведу, чтобы жить веселей: ты домой приходишь, а она тебе радуется!.. Приезжайте в наше Простоквашино!..» (499). Но взрослым нет доступа в детскую утопию (лишь маме и папе разрешено эпизодически и временно посещать ее). Взрослых нет, ибо в утопии, как мы отмечали, сами дети играют «во взрослых». Тема игры в повести Э. Успенского исключительно важна, а сама игра столь многогранна, что требует отдельного разговора.
Список литературы Детская утопия (повесть-сказка Э. Успенского "Дядя Федор, пес и кот")
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. -Л.: Худож. лит., 1971. -414 с.
- Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. -Л.: ЛГУ, 1986. -200 с.
- Рогачев В. А. «Память детства» как категория поэтики детской литературы//Проблемы детской литературы. -Петрозаводск: ПетрГУ, 1984. -С. 111-114.
- Торшин А. А. Трилогия Н. Н. Носова о Незнайке: недетское содержание детской сказки//Мировая словесность для детей и о детях. -М., 2006. -Вып. 11. -С. 240-242.
- Чаликова В. А. Предисловие//Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. -М.: Прогресс, 1991. -С. 3-20.
- Чернышева Т. А. Природа фантастики. -Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1984. -336 с.