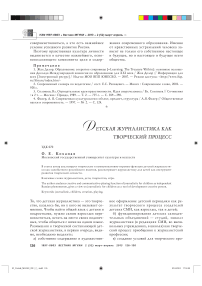Детская журналистика как творческий процесс
Автор: Коханая Ольга Евгеньевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Статья в выпуске: 2 (52), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье автор анализирует творческую и коммуникативно-игровую функции детской журналистики как самобытного российского явления, рассматривает журналистику для детей как инструмент развития творческой личности.
Журналистика, дети, творчество, игра
Короткий адрес: https://sciup.org/14489430
IDR: 14489430 | УДК: 070
Текст научной статьи Детская журналистика как творческий процесс
То, что детская журналистика — это творчество, казалось бы, ни у кого не вызывает сомнения. Чтобы найти общий язык с детьми и подростками, нужно самим взрослым перевоплотиться, встать на место своих подопечных, чтобы общаться с ними на одном языке. Размышляя о творческой составляющей детской журналистики, в первую очередь, видимо, необходимо выделить:
-
а) собственно содержание и художествен-
- ное оформление детской периодики как результат творческого процесса создателей детских СМИ, как взрослых, так и детей;
-
б) функционирование детских самодеятельных объединений — студий, «школ» журналистики (в редакциях СМИ, во внешкольных учреждениях, в школах) как творческий процесс приобщения к журналистской профессии;
-
в) создание условий для творческого про-
126 1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 2 (52) март–апрель 2013 126–130
цесса ребенка, такого, например, как игра в журналистику (может быть, самое главное).
Как известно, детство — это особое психологическое состояние человека, в основе которого заложена игра. Ребенок, наблюдая окружающую действительность, поведение людей, именно в играх воссоздает образно интерпретированную модель жизни. Это своеобразный театр детства, где в форме игры, стихийного подсознательного дей- ствия привносятся элементы сознательного отношения. На основе этого формируются и развиваются творческие, созидательные качества ребенка.
Не случайно известный философ, культуролог М.С. Каган в 1996 году, используя деятельностный подход к изучению культуры, одной из социальных функций культуры, наряду с преобразованием, общением и художественным освоением мира, впервые официально выделяет игровую функцию [3, с. 72].
Игра занимает важное место в жизни ребенка, доставляя ему при этом большое удовольствие. Его представления «с ранних лет полны образности. Ребенок “воображает” нечто другое, представляет что-то более красивое, или возвышенное, или более опасное, чем его обычная жизнь. Ребенок видит себя принцем или отцом, или злой ведьмой, или тигром. При этом он испытывает такую степень восторга, которая совершенно роднит его с мыслью, что он и взаправду принц и т.д., хотя “обыденная” реальность при этом и не вытесняется полностью из сознания. Его представление есть “как будто” воплощение, мнимое осуществление, есть плод “воображения”, то есть выражение или представление в образе» [5, с. 24—25].
В чем же отличие художественной, в частности журналистско-литературной деятельности, от игры? В целесообразности. В процессе творческой деятельности человек изменяет самого себя, свои способности, свой внутренний мир, всякий раз преобразуя предмет в своем воображении в соответствии с представлением о желаемом как возможном.
Известно, что термин «игра» ввел в научный оборот Иммануил Кант, поскольку этот феномен культуры привлекал его внимание как воплощение свободной деятельности человека. Согласно Канту, в отличие от деловых занятий, игра не преследует никаких целей, в процессе ее человек получает удовольствие и наслаждение. Другими словами, предложив ребенку играть в «журналистику», мы не только расширяем его кругозор, знания, социализируем его, но и даем ему возможность испытывать в процессе игры удовольствие и наслаждение.
Американский культуролог и антрополог М. Херсковиц утверждал, что параллельно социализации происходит инкультурация, то есть освоение ребёнком миропонимания и поведения, свойственного носителям данной этнокультурной группы, — освоение языка, норм и ценностей родной культуры, то есть, по сути, литературно-художественное освоение мира. Глубоко, ярко и образно коммуникативно-игровая функция, как одна из основных в литературе для детей и в журналистике, в частности, охарактеризована Корнеем Чуковским. Он отметил, какую громадную роль в детском искусстве играют те «лепые небылицы», те «забавные бессмыслицы», которые достигаются в детском стишке перестановкой самых обычных жизненных явлений. «Чаще всего желанный абсурд достигается в детской песне тем, что неотъемлемые функции предмета А навязываются предмету Б, а функции предмета Б навязываются предмету А… Пустынник спросил у меня, сколько земляники растет на дне моря? Я ответил ему: столько же, сколько красных селедок вырастает в лесу.
Для восприятия этих игровых стихов ребенку необходимо твердое знание истинного положения вещей: селедки живут только в море, земляника — только в лесу. Небывальщина необходима ему лишь тогда, когда он хорошо утвердится в бывальщине». Думается, что глубоко верна та догадка, что поэзия для детей как вид искусства очень близко стоит к игре и очень хорошо поясняет нам роль и значение искусства в детской

жизни.
В связи с этим исследовательского внимания заслуживает вопрос о том, какая глубокая связь существует между детскими стишками и детскими играми. «Оценивая, например, книгу для малолетних детей, критики нередко забывают применять к этим книгам критерий игры, а между тем большинство сохранившихся в народе детских песен не только возникли из игр, но и сами по себе есть игра: игра словами, игра ритмами, звуками… Во всех этих путаницах соблюдается, в сущности, идеальный порядок. У этого безумия есть система… вовлекая ребенка в… перевернутый мир, чтобы тем вернее утвердиться в законах, управляющих миром реальным. Эти нелепицы были бы опасны ребенку, если бы они заслонили подлинные, реальные взаимоотношения идей и вещей. Но они не только не заслоняют их, они их выдвигают, оттеняют, подчеркивают. Они усиливают (а не ослабляют) в ребенке ощущение реальности» [2, с. 249], они помогают убедиться в прочности знания, поскольку само игровое действие предполагает бóльшую степень свободы по отношению к предмету игры. Не нужно никого убеждать в суперрациональности современных детей. Может быть, именно поэтому самыми любимыми они называют мультфильмы-нелепицы: «Пластилиновая ворона», «Ёжик в тумане». От этого до абсурдности парадоксального мира они получают истинное наслаждение.
И это чувствует также ясно не только детский писатель, журналист, пишущий для детских изданий, но и художник-дизайнер, ища подход к детскому сердцу. Так, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения В.М. Конашевич, на опыт которого как детского художника опираются сейчас молодые художники, относился к детской иллюстрации как к предмету искусства — нарядному, тесно связанному с содержанием и словом. Ребёнок может вглядеться в рисунок, всё понять и увлечься игрой, которую ему предлагает художник. Кто не помнит, как Конашевич рисовал цир- ковых артистов, толстяка-буржуя, объевшегося мороженым, даму, что сдавала в багаж «диван, чемодан, саквояж»…
Вот как, например, пишет о В.М. Кона-шевиче искусствовед Э.З. Ганкина: «Его искусство искрится, сверкает и радует, как само детство. Он понимает, что четырех-шести-семилетний возраст — это чудесная пора открытий, что это время величайшей жадности формирующегося сознания, время увлекательных игр, время беззаботного и беззлобного смеха, время любви к радующим детский глаз ярким краскам, цветам, лоскуткам, к миру игрушек... Конашевич — умный воспитатель ребенка. Он учит его, но может и пускаться с ним в пляс, отвечать на вопросы и играть с ним» [4, с. 98].
Заслуживают внимания слова К.И. Чуковского, сказанные им В.М. Конашевичу после издания сборника «Чудо-дерево». Писатель отметил, что рисунки так поэтичны, нарядны, сделаны такой уверенной, сильной рукой большого (к тому же очень простосердечного) мастера, что ему стало неловко перед художником за несовершенство своего текста. Рисунки, по мнению К. Чуковского, придали сказкам такие качества, которых «сказки сами по себе не имеют».
К.И. Чуковского и В.М. Конашевича сблизила совместная работа над книгами «Путаница», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Телефон», «Айболит», «Тараканище» и др. Как только открываешь первую страницу книги, иллюстрированной Конашевичем, возникает ощущение, что ты присутствуешь при начале представления кукольного театра. Возникает тот же, что и в театре, «эффект присутствия».
Поэтому для дизайнера детского журнала немаловажно разбираться в особенностях художественного восприятия юных читателей, читателей эпохи постмодерна. Не будет нарушением требований реализма соединение в одном рисунке последовательных моментов одного события, а также событий, происходящих в разных местах, так как сами категории времени и пространства ребёнок ещё не осознал.
Мир образов современного ребёнка весьма разнообразен. Это и естественные образы его восприятия: люди, их внешность, одежда, природа, животные, предметы обихода (дом, мебель, посуда, игрушки). Это и новые, неизвестные прежде детям предметы, такие как компьютер, мобильный телефон, видеокамера и т.д. В предметно-эстетической среде современный ребёнок ещё задолго до того, как научится читать, видит образы мультфильмов, самодеятельные видеоролики, в которых узнаёт своих родителей, домашних животных. Как правило, с самого раннего детства сопровождает его и детская книжка с традиционными образами Курочки Рябы, Колобка, Котика-кота и т.д.
Философ Э.В. Ильенков писал, что «в искусстве развивалась и развивается та самая драгоценная способность, которая составляет необходимый момент творчески-человеческого отношения к окружающему миру, — творческое воображение, или фантазия». Художественная деятельность вообще культивирует высшие, наиболее совершенные формы восприятия. Такие формы восприятия необходимы развивающемуся человеку, так как способность мыслить и способность видеть мир как единый образ (а не просто глядеть на него) — это две взаимодополняющие друг друга способности: одна без помощи другой не в состоянии выполнить свою собственную задачу.
Когда ребенок перестает играть, он не может отказаться от наслаждения, которое ему ранее доставляла игра. Он пытается найти в действительности источник этого удовольствия. Возраст 10—12 лет — это возраст, когда начинаются активное осознание и формирование нравственно-эстетических ценностей. Известный русский педагог, философ, создатель теории свободного творческого развития личности К.Н. Вентцель еще в начале ХХ века много размышлял над этим: «Для ребенка надо создать такую среду, которая постоянно пробуждала бы в нем активные чувства, вызывала бы его самодеятельность, заставляла бы его сознательно и обдуманно действовать. Только при таком условии воля в ребен- ке достигнет той широты развития, без которой невозможно совершенствование человека в нравственном отношении» [1, с. 518]. Дети нуждаются в чувстве защищенности, стабильности и доброжелательности окружающего мира, им необходимы жизненные ориентиры, признанные и поддерживаемые окружающими. Поэтому в СМИ для детей положительные факторы воздействия на них следует отбирать, не пуская процесс воспитания на самотек, усадив ребенка у компьютера или телевизора. Детство в современной ситуации далеко не безмятежно и обрело некие контуры угрозы будущему. При свободном владении информацией и Интернетом снижается интерес к художественному наследию, уровень знания классики подменяется суррогатом массовой культуры, популяризирующей эротику, наркоманию, насилие. В средствах массовой информации почти исчезли передачи, поддерживающие тонус и энергетику высокой духовности. Для пробуждения и развития в ребёнке активности, самодеятельности и воли нужно отбирать и целенаправленно использовать положительные факторы воздействия на его психику.
Защитный «пояс» культуры в СМИ для детей должен выступать гарантом безопасности детства, предупреждать деструктивные формы поведения, содействовать распространению гуманности и согласия. Детские книги, газеты и журналы для детей должны не только быть яркими, красочными, нести в себе элемент игры, но и представлять некие «островки стабильности», которых не касается гонка за успехом и бесконечные реформы и новшества. Они должны стать некими амортизаторами, помогающими ребёнку восстановить душевные силы, сохранить целостность индивидуальности. Нужно выбирать для ребенка такие позитивные элементы культурной среды, которые оказывают благоприятное воздействие на волю, на свободное проявление эмоций и чувств, на развитие нравственности, на формирование и утверждение в сознании ребенка высших антропологических ценностей: Истины, Добра, Красоты, Веры, Свободы, Любви.