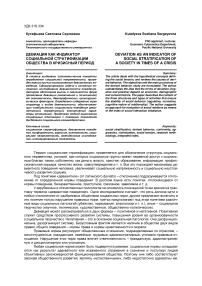Девиация как индикатор социальной стратификации общества в кризисный период
Автор: Кутафьева Светлана Сергеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 20, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье выделены гипотетические концепты определения социальной напряженности, проведен анализ причин возникновения девиантного поведения. Сформулированы задачи и основные положения исследования девиантности поведения. Автором обоснована мысль о зависимости форм проявления девиации (негативной и позитивной) от экономических, демографических, культурологических факторов. Определено содержание трех структур и видов деятельности, обеспечивающих стабильность социального поведения (регулятивный, нормативный, когнитивный характеры отношений). Предложен подход оценивания социальных отношений с помощью показателя дисбаланса социального взаимодействия.
Социальная стратификация, девиантное поведение, конформность, агрессия, виктимность, социальная напряженность, методология исследований, интегрированный показатель
Короткий адрес: https://sciup.org/14936489
IDR: 14936489 | УДК: 316.334
Текст научной статьи Девиация как индикатор социальной стратификации общества в кризисный период
Термин «социальная стратификация» применяется для обозначения структуры социального неравенства, условий, при которых социальные группы имеют неравный доступ к социальным благам, таким, собственно, как деньги, власть, престиж, образование, информация, профессиональная карьера, качество жизни, самоутверждение и т. п. Все это порождает механизмы девиантного поведения человека, увеличивает социальную напряженность и социальную неустойчивость развития социума.
Под понятием «девиантное» (от латинского deviattio – отклонение) подразумевается отклонение от определенной нормы поведения. В русском языке есть понятия: отклоняющееся от нормы поведение, безнравственное, преступное, греховное, зависимое и т. д.
У зарубежных и отечественных психологов не сложилось пока единой точки зрения на трактовку термина «девиантное поведение». Одни исследователи считают, что речь должна идти о любых отклонениях от одобряемых обществом социальных норм, другие предлагают включить в это понятие только нарушение правовых норм, третьи предполагают под этим понятием различные виды социальных патологий (убийство, наркомания, алкоголизм и т. п.), иные – социальное творчество (научное, техническое, художественное, общественно-политическое).
Девиация может рассматриваться в двух формах – позитивной и негативной. Позитивная служит средством прогрессивного развития системы, повышения уровня ее организованности (социальное творчество). Негативная – это в основном социальная патология. Она дисфункциональна, дезорганизует систему. Безусловным фактом является наличие в обществе двух видов правил общего поведения – нормы права и нормы нравственности и морали.
Правовые нормы регулируют общественные отношения, подразделяемые по отраслям, – конституционные, гражданские, семейные, трудовые, административные, уголовно-правовые отношения. Нарушение этих норм права влечет ответственность – гражданскую, административную и дисциплинарную или уголовную.
Любая социальная норма может быть подвергнута ревизии: социальные нормы складываются как результат адекватного или искаженного отражения в сознании и поступках людей объективных закономерностей функционирования общества. Поэтому они либо соответствуют законам общественного развития, являясь «естественными», либо недостаточно адекватны им, а то и вступают в противоречие из-за искаженного - классово-ограниченного, религиозного, субъективного, мифологизированного отражения объективных закономерностей. В таком случае аномальной становится «норма», «нормальным» же - отклонение от нее [1].
Сущность девиации можно объяснить тем, что существование каждой системы (физической, биологической, социальной) есть динамическое состояние, единство процессов сохранения и изменения. Девиация является общей формой, механизмом, способом изменчивости, а следовательно, и жизнедеятельности, развития каждой системы. Поскольку функционирование социальных систем неразрывно связано с человеческой жизнедеятельностью (предметной, коллективной, сознательной деятельностью общественного человека), социальные девиации реализуются в конечном счете также путем девиантного поведения.
В социологии девиантного поведения выделяются несколько направлений, объясняющих причины его возникновения. В частности, Э. Дюркгейм [2] выдвинул понятие «аномия» (состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились). Ученый считает, что причиной девиантного поведения является несогласованность между целями, выдвигаемыми обществом, и средствами, которые оно предлагает для их достижения.
Следует заметить, что существует зависимость всех форм проявления девиации от экономических, демографических, культурологических и многих других факторов.
Особую остроту эта проблема приобрела сегодня в нашей стране, где все сферы общественной жизни претерпевают серьезные изменения, происходит девальвация прежних норм поведения. Устоявшиеся способы действия не приносят желаемых результатов. Рассогласования между ожидаемым и реальностью повышают напряженность в обществе и готовность человека изменить модель своего поведения (от конформности к агрессии), выйти за пределы сложившейся нормы. В условиях острой социально-экономической ситуации существенные изменения претерпевают и сами нормы (уровня жизни, условий жизнедеятельности). При этом могут отключаться и культурные ограничители (действие власти), ослабевает (а это так и есть) вся система социального контроля.
Все это говорит о кризисе социума, отношений власти и народа, аномии общества.
Целый ряд западных социологов [3] указывает на то, что некоторая степень безнормности присуща любому обществу из-за «несовершенства социализации»; что девиантное поведение связано с типом культуры: если ценности и нормы меняются, меняется и определение девиантности.
Относительность девиантного поведения явилась исходным пунктом теории клеймения, согласно которой само определение действия как девиантного возможно только по реакции на него другого человека. Г. Беккер [4] считал, что «общественные группы утверждают девиантное поведение посредством того, что устанавливают правила, нарушение которых конституирует девиантное поведение; действие этих правил социальные группы распространяют на определенных людей, которых клеймят как аутсайдеров».
В рамках социологического подхода можно выделить интеракционистское направление -структурный анализ [5]. В нем господствует тезис, согласно которому девиантность не является свойством, внутренне присущим какому-либо социальному поведению, а есть не что иное, как следствие социальной оценки определенного поведения как девиантного. Девиация обусловлена способностью влиятельных групп общества (власти, например) навязывать другим слоям (стратам, локальным социумам) определенные стандарты (уровня жизни, условий проживаний, социальных отношений). Анализ причин девиантного поведения в этом случае направлен на изучение процессов, явлений и факторов, определяющих или влияющих на приписывание статуса девиантности поведения и статуса девиантности индивиду (группам, стратам), то есть исследуется, каким образом формируется отношение к людям как к девиантам.
Структурный анализ включает три объяснения: культурологическое (С. Селин, О. Турк), считающее причиной девиации конфликты между нормами субкультуры и господствующей культуры; конфликтологическое (К. Маркс, Р. Квинин, И. Тейлор, П. Уолтон, Д. Янг), согласно которому девиация выступает результатом противодействия нормам капиталистического общества и обусловлена его социально-экономической природой; в рамках «социальной аномии» (Р. Мертон) девиантное поведение обусловлено рассогласованием между провозглашенными данной культурой целями и институциализированными средствами их достижения.
Отечественные исследователи объясняют девиантное поведение в основном двумя причинами: несовпадением требований нормы с требованиями жизни и несоответствием требований жизни с интересами конкретной личности.
Скорее всего, это обусловлено противоречием между стабильностью и мобильностью общества как системы. Общество, с одной стороны, ориентирует индивида на конформное поведение, что является условием социальной стабильности, а с другой - объективно требует от него инициативности, то есть выхода за рамки общепринятых стандартов.
В отличие (и в дополнение) от структурного анализа причин девиантного поведения, строящегося на анемической теории ценностей и норм, нами предлагается подход на основе ориентированного на структурную дифференциацию общества реконструктивного анализа. Его сущность состоит в следующем. Типичное поведение людей в определенных ситуациях есть выражение их внутренней сущности. Каждый человек живет и действует в условиях определенной социальной системы, выполняя множество различных социальных ролей, представляющих динамическое выражение его социальных позиций, статусов. И отклонение от ролево-статусного положения ведет к девиантному поведению.
Причем девиация в данном случае - это сконструированная реальность, которая не является простым результатом нормативных процессов, а содержит структурирующие элементы (власть, народ), способствующие социальным изменениям (ролей, социальных позиций, статусов). Анализируется, таким образом, и конструкция социума, и ее реконструкция, приводящая к стратификации социума, его дезорганизации, подрыву основы всего общества.
В подобном социальном положении человек приобретает те или иные психические и социальные черты, которые повышают вероятность превращения его в жертву. В этом плане жертва -это человек (группа, сторона взаимодействия), который утратил значимые для него ценности в результате воздействия на него другого человека (группы), определенных событий и обстоятельств. В этом случае говорят о «виктимности» и «виктимогенности». В литературе иногда используют термин «виктимное поведение», что означает «поведение жертвы» - поведение человека, загнанного в угол. Можно сказать, это крайняя степень девиантного поведения. Установление границ такого поведения и степени приближения к ним является важной и актуальной проблемой для общества.
Проблема эта прежде всего состоит в разработке новой методологии социальных исследований девиантного поведения; изучении процессов, явлений и факторов, определяющих или влияющих на приписывание статуса девиантности поведения и статуса девианта индивиду (субъекту), то есть в исследовании того, в какой степени девиантное поведение является отражением динамики социальных отношений, чтобы оценить его уровень.
После исследования девиантности поведения общества и его осознания можно выдвинуть следующие гипотетические концепты определения социальной напряженности:
-
1) социальная напряженность - выраженное в сознании и поступках людей девиантное отношение населения к целям, выдвигаемым обществом, и средствам их достижения;
-
2) социальная оценка девиантности носит размытый характер и потому требует структуризации социальных отношений и их избирательного отношения с личностью (обществом);
-
3) поскольку функционирование социальных систем неразрывно связано с осознанной жизнедеятельностью человека в обществе, то в исследование социальной напряженности должно входить отражение динамики механизмов сохранения, изменения и развития этих систем и оценка их состояния;
-
4) ввиду того, что причинами девиантного поведения явились рассогласования между провозглашенными целями общества и средствами их достижения, ролями и статусом субъектов, их социальными ценностями, то все эти разновидности рассогласования должны отражаться в модели социальной напряженности и, естественно, измеряться степенью этого несоответствия (девиантностью);
-
5) девиантное состояние общества изменяет те или иные психические и социальные черты, приводящие личность к виктимности - крайней степени девиантного поведения.
Исходя из этого, гипотетическая модель социальной напряженности должна отражать рефлексию общества на социальные изменения, их крайнюю степень, особенно ее скрытую (латентную) составляющую.
Сформулированная концепция социальной напряженности позволяет формировать и методологию ее исследования.
В связи с этим возникает целый ряд задач исследования: зафиксировать поведенческо-мотивационные ценности населения, их структуру и объективные характеристики, их идентификацию; обнаружить реальных носителей этих ценностей путем сопоставления, с одной стороны, социально-профессиональных, а с другой - социально-исторических групп; проанализировать институциональные и статусно-ролевые отношения в социуме, динамику их социального взаимодействия.
Следует заметить, что подобного рода задачи исследования девиантного поведения в разрезе локальных социумов не ставились, так как отсутствует методология для подобного рода исследований. Существует методология исследования индикаторов устойчивого развития страны и отдельных регионов, но не социумов.
Имеющаяся мировая практика оценки уровня устойчивого развития общества строится на показателях благосостояния и качества жизни индивидуумов, субъектов страны и регионов. Для оценки этого качества жизни в ряде стран используется понятие «человеческий капитал», а также «социальный капитал» как мера гражданской активности, социальной мотивации и эффективности социальных институтов [6].
Наряду с теорией человеческого капитала значительную роль сыграла концепция базовых нужд [7], к которым относятся индивидуальные и общественные. Позднее в западной, а затем и отечественной науке появилось понятие «качество жизни» [8]. В подходе с позиций качества жизни благосостояние понимается как способность индивида использовать ресурсы (денежные, здоровья, образования, семейные и социальные связи, гражданские права и т. п.) для управления собственной жизнью, то есть в терминах расширения возможностей выбора и действий.
В настоящее время среди западных исследователей распространена точка зрения [9], доказывающая, что помимо объективных показателей (человеческий ресурс) существуют субъективные (взаимное восприятие индивида и общества) и рассматривать их следует как равнозначные.
В начале 1990-х гг. возникла концепция устойчивого человеческого развития, принятая ООН и реализованная Российской Федерацией [10]. Сущность концепции устойчивого человеческого развития состоит в том, что она делает акцент на показатели экономического роста РФ, при этом мало уделяет внимания вопросам справедливого распределения его результатов, не рассматривая социум как таковой: его стратификацию, институты, социальные отношения, социальную динамику, что является причинами и факторами возникновения девиантного поведения.
Современная институциональная теория социальных отношений утверждает, что социальные институты состоят из когнитивных, нормативных и регулятивных структур и видов деятельности, обеспечивающих стабильность социального поведения и придающих ему определенное значение.
Регулятивный характер социальных отношений включает в себя способность устанавливать правила, проверять и пересматривать соответствие других этим правилам и по необходимости применять санкции (вознаграждение или наказание) с целью воздействия на дальнейшее поведение. Центральными компонентами регулятивного процесса являются сила, страх и практическая целесообразность, но они сдерживаются существованием правил – в виде формальной морали или формальных правил и законов.
Нормативный характер социальных отношений делает акцент на нормативные правила, которые вносят в социальную жизнь предписывающую, оценочную и обязывающую области. Нормативные системы при этом включают в себя как ценности, так и нормы. Ценности – это концепции предпочтительного или желаемого, а также стандарты, с которыми можно сравнивать существующие структуры и поведение. Нормы конкретизируют, как все должно происходить; они определяют легитимные способы достижения целей. Нормативные системы определяют цели и задачи, но они предписывают также пути их достижения.
Следует заметить, что некоторые из ценностей и норм применимы ко всем членам социума, другие – к отдельным типам и видам. Такие специализированные ценности и нормы называются ролями: концепции надлежащего поведения конкретных индивидов или определенных социальных позиций.
Эти концепции представляют собой не просто предложения (или планы), но и предписания (нормативные ожидания) того, что участники взаимодействия должны делать. Ожидания исходят от других участников ситуации и поэтому являются внешним фактором воздействия для центрального действующего субъекта (например, власти).
В соответствии с теорией организации нормативную концепцию социальных отношений следует рассматривать через призму социальных обязательств: «Полагая, что поведение основано на правилах, мы подразумеваем, что действие представляет собой приведение ситуации в соответствие с тем, чего требуют роли. Правила определяют взаимоотношения между ролями в плане того, что исполнитель одной роли должен делать по отношению к исполнителям других ролей» [11].
Сторонники когнитивного характера социальных отношений считают, что посредником между миром внешних стимулов и реакцией индивида служит совокупность его символических восприятий мира. Они рассматривают социальное действие как имеющее субъективное значение.
Взяв за основу единство этих концепций, мы предлагаем систему анализа социальных отношений на принципе социальной зависимости. Социальная зависимость как результат взаимодействия является причиной того, что полученный результат никогда полностью не соответствует ожидаемому. Любое событие зависит более чем от одного воздействующего субъекта – это результат, определяемый взаимозависимыми субъектами.
Существуют различные способы классификации взаимозависимости: взаимозависимость результата и поведения.
В случае взаимозависимости результата решения каждого субъекта могут быть функцией как собственных решений, так и решений взаимодействующего субъекта. В случае взаимозависимости поведения действия субъекта зависят от действия другого субъекта. Взаимозависимость не всегда симметрична и сбалансирована. Она может быть асимметричной и несбалансированной.
Основываясь на констатации подобного факта, представляется возможным выдвинуть ключевое положение методологии исследования социальной напряженности общества: исходя из целей стабильности состояния и развития социума, социальное взаимодействие носит непротиворечивый (устойчивый) характер, если оно сбалансировано. Отсюда центральная идея подхода: оценивать социальные отношения показателем дисбаланса социального взаимодействия.
Основные положения концепции исследования девиантности поведения: выражение показателей социального взаимодействия через систему ценностных и статусно-ролевых ориентиров субъектов; учет динамики факторов социального взаимодействия: социальная ценность, как и социальная зависимость, не постоянны во времени, изменяют свою ориентацию с изменением социальных условий и обстоятельств; учет субъективности восприятия субъектами результатов социального взаимодействия, самоидентификации и саморазвития. В основе такого оценивания лежит концепция сбалансированности самооценки индивида, оценки других и отношений с ними. При этом объективные и субъективные оценки равнозначны.
Предложенные институциональная концепция и методология исследования и оценки социального поведения позволяют синтезировать интегрированный показатель «социального девианта», отражающий состояние некоего социально фантома: с одной стороны – «призрака» социальной патологии общества (когда явление существует, но его «не видно»), а с другой стороны – признака виктимогенности его поведения.
Ссылки:
-
1. Парсонс Т. Общетеоретические проблемы социологии. Социология сегодня: проблемы и перспективы. М., 1965. С. 29.
-
2. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / пер. с фр. А.Н. Ильинского. СПб., 1998. 496 с.
-
3. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М., 2003. 672 с.
-
4. Там же.
-
5. Там же.
-
6. Celeman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital // American journal of sociology. 1988. Vol. 94. P. 27–43.
-
7. International Labor Organization. Employment, Growth and Basic Need’s: a One World Problem. Geneva, 1976. 348 р.
-
8. Johansson S. Conceptualizing and Measuring Quality of Life for National Policy // FIFF Working Paper Series. 2001. № 171.
-
9. Celeman J.S. Op. cit.
-
10. Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Рефлексивное крестьянство. 1999. 216 с.
-
11. Argile M. Subjective Well-being // IU Put Suit of the Quality of Life / ed. by A. Offer. New York, 1966. P. 18–45.
P. 11–16.
Список литературы Девиация как индикатор социальной стратификации общества в кризисный период
- Парсонс Т. Общетеоретические проблемы социологии. Социология сегодня: проблемы и перспективы. М., 1965. С. 29.
- Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд/пер. с фр. А.Н. Ильинского. СПб., 1998. 496 с.
- Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М., 2003. 672 с.
- Celeman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital//American journal of sociology. 1988. Vol. 94. P. 27-43.
- International Labor Organization. Employment, Growth and Basic Need's: a One World Problem. Geneva, 1976. 348 р.
- Johansson S. Conceptualizing and Measuring Quality of Life for National Policy//FIFF Working Paper Series. 2001. № 171. P. 11-16.
- Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни//Рефлексивное крестьянство. 1999. 216 с.
- Argile M. Subjective Well-being//IU Put Suit of the Quality of Life/ed. by A. Offer. New York, 1966. P. 18-45.