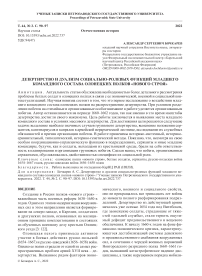Дезертирство и дуализм социально-ролевых функций младшего командного состава олонецких полков «нового строя»
Автор: Бочкарев Александр Сергеевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Актуальность статьи обусловлена необходимостью более детального рассмотрения проблемы беглых солдат в олонецких полках в связи с ее экономической, военной и социальной контекстуализацией. Научная новизна состоит в том, что это первое исследование о воздействии младшего командного состава олонецких полков на распространение дезертирства. При условном разделении побегов на стихийные и организованные особое внимание в работе уделяется организованным побегам. Автор останавливается на периоде 1660-1662 годов, так как именно в это время масштабы дезертирства достигли своего максимума. Цель работы заключается в выявлении места младшего командного состава в условиях массового дезертирства. Для достижения цели решаются следующие задачи: выделение наиболее значимых случаев группового дезертирства, выяснение положения сержантов, каптенармусов и капралов в армейской иерархической лестнице, исследование их служебных обязанностей и причин организации побегов. В работе применены историко-системный, историкосравнительный, типологический, историко-генетический методы. Показано, что, несмотря на свою особую координационно-управленческую функцию в подразделениях, сержанты и иные младшие командиры, будучи, как и солдаты, выходцами из крестьянской среды, брали на себя ответственность в планировании и организации групповых побегов. Сделан вывод, что побеги, организованные сержантами, обуславливались двойственностью специфики их социальной роли.
Олонецкие полки «нового строя», беглые солдаты, сержанты, русско-польская война 1654-1667 годов, русско-шведская война 1656-1658 годов благодарности
Короткий адрес: https://sciup.org/147235933
IDR: 147235933 | УДК: 94(47) | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.737
Текст научной статьи Дезертирство и дуализм социально-ролевых функций младшего командного состава олонецких полков «нового строя»
Создание в России полков «нового строя» – важнейшая часть военных реформ 1630–1650-х годов. Одним из этапов модернизации вооруженных сил в этом направлении является формирование на северо-западе, в Карелии, солдатских и драгунских полков, основанных на милиционном принципе комплектования и состоящих из обученных военному делу крестьян Олонецкого уезда [3: 122].
Олонецкая пехота принимала активное участие в боевых действиях русско-польской (1654–1667) и русско-шведской (1656–1658) войн. Однако ее полки страдали от одной из самых распространенных проблем армий XVII века – дезертирства. Вызванное рядом факторов эконо-
мического, военного и социального свойств, оно не прекращалось все тринадцать лет войны до момента полного расформирования подразделений. Дезертирство из действующей армии началось уже осенью 1654 года под Витебском, где заонежские солдаты, страдающие от тяжестей «дальней службы», стали терпеть ощутимый дефицит продовольственного и вещевого обеспечения. К началу 1660-х годов на фоне финансово-экономического кризиса, характеризующегося дестабилизацией системы денежного и продовольственного снабжения вооруженных сил, в сочетании с чередой военных поражений Новгородского разрядного полка 1660–1661 годов, вызвавшей катастрофическое падение дисциплины, а также нарушением порядка мобили- зации олонецких солдат, дезертирство приобрело характер эпидемии1 [6: 133–134], [7: 134].
Солдаты сбегали со службы, как правило, группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек, нередко вооруженными. В условиях групповых побегов особая роль принадлежала зачастую дезертировавшим вместе с рядовыми командирам младшего звена – сержантам, капралам и каптенармусам. До сих пор вопрос о степени вовлеченности младшего командного состава в массовое дезертирство солдат и драгун олонецких полков «нового строя» в историографии не изучался. Тем не менее существует ряд работ по смежным темам, которые необходимы в нашем исследовании. Вопрос положения каптенармусов, капралов, сержантов и др. в системе нижних чинов исследовался А. В. Маловым [5]: автор проследил эволюцию иерархии командного состава полков «нового строя» в 1630-е годы. Для выявления экономической подоплеки дезертирства следует обратиться к публикации А. А. Новосельского [7], где в числе прочего рассматриваются трудности с продовольственно-вещевым обеспечением олонецких солдат, а также к монографии К. В. Базилевича2, посвященной воздействию денежной реформы на армию. Результаты и последствия похода корпуса князя И. А. Хованского, в частности поражений под Полонкой и Ляховичами, разобраны в статье О. А. Курбатова [4]. Кроме того, в одной из наших статей [1] рассмотрены взаимоотношения гражданского и военного населения Пскова, в том числе противоречия между олонецкими пашенными солдатами и полковым командованием на примере мятежа 1662 года. Для уточнения общих фактов истории олонецких полков «нового строя» в статье используются работы Р. Б. Мюллер [6], А. Ю. Жукова [2] и коллективная монография по истории Карелии [3].
Исследование опирается на неопубликованные архивные источники – материалы фонда 98 (Олонецкая воеводская изба) Научного архива Санкт-Петербургского института истории РАН3 и фондов 137 (Боярские городовые книги) и 210 (Разрядный приказ) Российского государственного архива древних актов4. Архивные фонды содержат необходимую документацию публично-правового и частно-правового характера: наказные памяти олонецкого воеводы Т. В. Мышец-кого на места, его отчеты воеводе Новгородского полка Б. А. Репнину, отписки солдатских сыщиков о разыскных мероприятиях и т. п. Важную часть исследования составляют материалы приходно-расходных смет Олонецкого уезда и переписные книги Ивана Дивова 1657 года5. Необхо- димые источники, посвященные побегам солдат со службы и борьбе с дезертирством, опубликованы А. Ю. Жуковым6, а также в других сборниках документов7.
ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАССОВЫЕ ПОБЕГИ
По характеру организации дезертирство олонецких солдат и драгун можно условно разделить на два типа – побеги стихийные и организованные, то есть имеющие зачинщиков и подстрекателей. С точки зрения динамики дезертирства в контексте войн середины XVII века и варианта социальных перемен в статусе крестьянина от крестьянина к солдату, от солдата к дезертиру и снова к крестьянину или солдату особый интерес представляют групповые побеги. Здесь стоит уделить пристальное внимание личностям организаторов, их мотивировке, заинтересованности и вовлеченности в акт дезертирства.
Обращаясь к периоду наибольших масштабов дезертирства пашенных солдат и драгун начала 1660-х годов и основываясь на сыскных документах, расспросных речах и челобитных, мы выявили четыре наиболее заметных массовых спланированных побега, произошедших в один из месяцев 1660/1661 года (точная дата в документе отсутствует), середине мая 1662 года, 12 августа и 8 сентября 1662 года.
Побег 1660/1661 года
Данный побег упоминается в отписке олонецкого воеводы Т. В. Мышецкого воеводе Великого Новгорода И. Б. Репнину не позднее конца сентября 1662 года. Из воеводского сообщения известно, что в 1660/1661 году из Полоцка сбежало 19 солдат Важинского и Пудожского погостов. Судя по всему, дезертиры ушли из Полоцка двумя группами, одной из которых предводительствовали сержанты Оска Кривой и Федот-ко Матфеев. Главная причина побега – «хлебная скудость», то есть острая нехватка продоволь-ствия8.
Побег середины мая 1662 года
Данный акт дезертирства является предметом целого следственного дела, инициированного командованием Новгородского разрядного полка. Не ранее 11 мая и не позднее 22 мая 1662 года, во время передислокации полка Ягана Трейдена из Великого Новгорода в Псков, в районе Опочки 50 солдат под предводительством сержантов Ми-рошки Осипова и Климки Федорова совершили вооруженный побег9. Главной причиной бегства со службы вновь выступает «хлебная скудость»: финансово-экономический кризис начала 1660-х годов повлек за собой мощную инфляцию и рост цен на продовольствие, из-за чего военнослужа- щие не смогли обеспечивать свои базовые потребности и были поставлены на грань голода. В результате погони за дезертирами и мушкетной перестрелки с ними офицерам полка удалось схватить организаторов побега. По итогам следствия сержантам был вынесен смертный приговор. Его исполнение для Мирошки Осипова было сорвано 1 июня мятежом псковичей и солдат полка Ягана Трейдена, спровоцированного глубокими культурно-социальными противоречиями между населением и рядовыми солдатами, с одной стороны, и старшими офицерами-иноземцами – с другой [1: 96–97]. Из-за последовавших волнений в других олонецких полках «нового строя» казнь второго сержанта, Климки Федорова, была осуществлена только 27 августа в Олонце10.
Побег 12 августа 1662 года
О нем сообщает отписка солдатского вы-сыльщика ротмистра Феклиста Ласунского, побег также фигурирует в переписке воеводы Новгородского разрядного полка князя Б. А. Репнина и олонецкого воеводы князя Т. В. Мышецкого. Во время высылки на службу солдат Шунгского погоста и Кузарандской волости «на Онеги на пустом берегу» дезертировало 300 человек. В отписке Ласунского указывается, что руководителями побега являлись сержанты Илюшка Михайлов, Фетька Тимофеев и каптенармус Якушко Мартемьянов, которые
«полковых беглецов… оне, сержанты, воровством своим роспустили. И иные салдаты шунгские и куза-рандские, на тех сержантов смотря, все назад воровством своим по домам розбежались. Не хотят служить великому государю, на государеву службу не пошли, от стрельцов отбилисе и великому государю учинилисе силны и непослушны».
Побег такой массовости спровоцировал, по сообщению Ласунского, отказ идти на службу солдат сопредельных погостов11.
Побег 8 сентября 1662 года
Материалы следственного дела, разбиравшегося в Опочке в съезжей избе воеводой С. А. Бе-шенцовым, свидетельствуют, что 8 сентября из-под Опочки сбежало, вероятно, под предводительством сержанта Ефтюшки Семенова, 16 солдат полка Ягана Трейдена. Посланным воеводой в погоню донским казакам удалось схватить лишь 11 дезертиров. На допросе сержант Ефтюш-ко Семенов показал, что у него с солдатами было два мотива дезертировать – из-за нехватки продовольствия и усталости от службы. Это раскрывают его расспросные речи, где указывается, что у солдат на подворьях «осталось хлеба в кади немного», «другие де их хлебные запасы остались по подворьям», а также о слухе, принесенном ротным дьячком о том, что «прислана государева грамота, а велено государева служба служить с переменою»12, то есть по шесть месяцев, о чем олонецкие солдаты неоднократно просили в своих челобитных13.
Основываясь на приведенных из источников примерах, можно с уверенностью утверждать, что в спланированных и организованных побегах из олонецких полков «нового строя», по крайней мере в 1660–1662 годах, руководящую роль брали на себя свои же сержанты. Остается открытым вопрос, почему именно сержанты и другие младшие командиры, такие как капралы и каптенармусы, возглавляли массовые побеги пашенных солдат и драгун.
СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВАЯ ДИХОТОМИЯ
Исследуя вопрос причастности младшего командного состава к организации солдатских побегов, необходимо произвести обзор военной иерархии в полках «нового строя». При этом важно обратить внимание на положение сержантов в иерархии воинских званий, а также рассмотреть их служебные обязанности.
В 1630-х годах при формировании первых полков «нового строя» была введена система воинских званий старшего, среднего и младшего командного состава. К середине XVII века офицерский корпус включал в себя начальных людей старшего и среднего командного состава в звании полковника, подполковника, майора, капитана (ротмистра у рейтар) и поручика. Младший командный состав представляли прапорщики (набиравшиеся не из олонецких солдат, поэтому к нашему исследованию не относящиеся), сержанты, подпрапорщики, каптенармусы, квартирмейстеры и капралы, то есть, в соответствии с приказной терминологией того времени, урядники меньшего чина [5: 228–232].
При формировании олонецких полков «нового строя» в 1649 году все должности от барабанщика до полковника заняли приглашенные на службу российским правительством иностранные наемники14. Начиная с апреля 1650 года, в связи с продвижением по службе «учительных людей» – иноземцев, в барабанщики и капралы уже переводят людей из солдат15. К началу войны с Речью Посполитой в 1654 году по той же причине большая часть должностей младшего командного состава была занята представителями солдатского населения Олонецкого уезда. Так, в олонецких бюджетных сметах с 1654/1655 года в расходных статьях отсутствуют какие-либо упоминания о сержантах-иноземцах и выдаче им жалованья16.
По своему служебному функционалу младшие командиры, главным образом сержанты, будучи опытными и надежными бойцами, являлись основным организационным звеном в роте. Они пользовались доверием офицерства, и одной из ключевых задач сержантов и других урядников меньшего чина являлась структуризация и стратификация однородной массы рядовых воинов в стройную управляемую систему нижних чинов [5: 231–232].
В опытности сержантов, организовавших рассмотренные побеги, сомневаться не приходится. По крайней мере, имена пяти из них мы находим в переписных книгах Ивана Дивова 1657 года: это Федотко Матфеев17 и Ефтюшко Семенов18 из Пудожского погоста, Илюшка Михайлов19 и Фетька Тимофеев20 из Шунгского погоста и Климка Федоров21 из Вытегорского погоста. Все пятеро начали военную службу до 1657 года, четверо из них на момент переписи находились дома, один (Федотко Матфеев) был в Лавуй-ском гарнизоне. Ко времени организованных ими побегов каждый пребывал в армии более шести лет (Федотко Матфеев, дезертировавший в 1660/1661 году, соответственно пять лет). Если взглянуть на ситуацию шире и вспомнить, где в 1657–1662 годах действовали олонецкие полки, вырисовывается внушительная картина: это различные операции русско-шведской войны 1656–1658 годов, в том числе взятие Юрье-ва-Ливонского, Сортавалы, Салми, Импилахти, Сванского Волочка, осада Корелы (Кексгольма) [2: 212–218]; походы Новгородского разрядного полка 1659–1660 годов, в особенности взятие Бре-ста22 и четырехмесячная осада Ляховичей23. Таким образом, сержанты – организаторы массовых побегов, будучи старыми солдатами, прошли серьезную боевую практику.
Помимо руководства солдатами в непосредственно походно-боевой обстановке, обязанности младшего командного состава включали в себя надзорно-полицейские функции: капралы, каптенармусы и сержанты активно привлекались к сыску дезертиров в качестве основных информаторов, конвоиров и помощников сыщиков. Например, с августа по октябрь 1660 года прапорщик полка Томаса Краферта Макар Никитич Брюхов провел несколько сыскных рейдов по Заонежским и Лопским погостам, в том числе 5 августа, 24 сентября и 16 октября в Лин-дозерском, Семчезерском, Селецком, Паданском погостах и Ведлозерской волости Олонецкого погоста,
«у старост и у сержантов и у капралов и у всех волостных людей» взял заверенные «сказки» о появившихся в погостах «пришлых гулящих людей, райтар и дворян, и драгун и салдат розных городов и погостов»24.
В то время как осведомителями сыщиков выступали капралы и сержанты, находящиеся при проведении разыскных мероприятий дома, к розыску дезертиров привлекались уже младшие командиры, находящиеся в полках. Они выступали в роли подчиненных солдатского сыщика при условии заключения поручительства, что, например, такой-то сержант, работая в погостах рядом с местом своего жительства, не сбежит домой. Так, 21 июня 1662 года сержант полка Томаса Гейса Максим Иванов, составив поручную запись со своими сослуживцами, был отправлен из Великого Новгорода в Олонецкий уезд для сыска и высылки солдат. Максиму Иванову вменялось действовать согласно распоряжениям олонецкой воеводской администрации и приказам высыльщика:
«ему, Максиму, за нашей порукою по высылки Олонецкого города воеводы князя Терентия Васильевича Мыщецкого да дьяка Дружины Протопопова по указу, где будет послан с высыльщиком, сыскивать салдат и высылать тотчас безсрочно на великого государя службу»25.
При отправке на службу солдат младшие командиры олонецких полков «нового строя» регулярно входили в состав конвоев сопровождения наряду с приставами и стрельцами. Например, в августе 1662 году сыщик ротмистр Феклист Ласунский выслал на службу в Великий Новгород партию солдат Шунгского погоста (211 человек) и Кузарандской волости (89 человек) в сопровождении стрельца и волостных приставов. Среди солдат Шунгского погоста на службу под надзором сержантов Илюшки Михайлова, Федьки Тимофеева, Елески Козмина и каптенармуса Якушки Мартемьянова направлялись шесть солдат «Крестьянова полку Любенова», уже бывших в бегах26. Однако, отойдя более чем на сто верст от погоста, 12 августа сержанты и каптенармус, сговорившись с конвоированными и подстрекая остальных солдат, устроили массовый побег, в котором приняло участие 300 че-ловек27. По сути, сержанты своими действиями дискредитировали себя перед лицом полкового командования. Поэтому, в связи с быстро распространявшимся дезертирством, воевода Новгородского разрядного полка Борис Александрович Репнин еще 20 июня 1662 года просил царя Алексея Михайловича присылать московских сыщиков взамен местных, так как
«сыщики тех салдат никоими обычаи нигде сыскать не могут, потому что те беглые салдаты живут по лесом и бегут в розные места, а норовят тем салдатам они ж, сыщики, потому, что одни новгородцы друзья и хлебояжцы»28.
Таким образом, в процессе розыска младший командный состав – капралы, каптенармусы и сержанты являлись основными источниками сведений о дезертирах и рядовыми оперативными работниками системы сыска и возвращения в строй беглых солдат. Это показывает не столько сержантскую осведомленность, сколько доверие со стороны командования. Конечно, доверие к сержантам у начальства было относительное. Об этом может свидетельствовать упомянутая миссия Максима Иванова: для сыска и высылки солдат его отправили лишь после составления поручительства от сослуживцев в том, что он не сбежит: «и на нас на поручиках пеня великого государя укажет, и наши поручиков головы в его Максима голову место»29. Сомнения в лояльности части урядников меньшего чина прослеживаются в военном трактате «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 года. В тексте недвусмысленно указывается на то, что квартирмейстеры – главные смутьяны в роте:
«А станоставец [он же квартирмейстер] в роте болши и к порухе нежели к прибыли. Потому, что он толколише сорить, и салдатов збивает, и наволнованье им помога-тель. И когда салдаты мятеж чинят, и они за них стоят, и их очищают, и тем у капитана свой изменник в роте».
Ротным командирам дается совет перепоручать обязанности квартирмейстера для пущей надежности сержантам и капралам30. Максимально же подорвать доверие командования олонецких полков смог побег трехсот мобилизованных солдат Шунгского и Толвуйского погостов, организованный сержантами, которые были обязаны сопроводить их на службу.
Находясь на лестнице военной иерархии выше рядового состава, капралы, каптенармусы и сержанты оставались такими же крестьянами, ровней и земляками для рядовых солдат. Это не только увеличивало осведомленность младшего командного состава о различных происшествиях в роте, бытовых и финансовых проблемах, но и отражалось на их собственной повседневности, в том смысле что сержанты вместе с солдатами выносили на своих плечах все тяготы войны и походной жизни. Пользуясь доверием одновременно офицеров и рядовых и отвечая за своих подчиненных, сержанты нередко выступали от имени солдат в коллективных челобитных о прибавке хлебного и денежного жалованья31
или о сокращении срока службы32. Это можно охарактеризовать как перетягивание каната с командованием, то есть дисциплина в обмен на приемлемое денежно-продовольственное содержание, что в той или иной форме встречалось и в западных армиях [8: 99]. Также младшие командиры становились поручителями своих сослуживцев, как, например, 21 июня 1662 года сержанты Денис Клементьев, Федор Еремеев, Михайло Трофимов, Антип Яковлев и каптенармусы Кирилл Емельянов, Трофим Григорьев, Родион Емельянов, Фома Мокеев, Максим Тимофеев, Юрье Елисеев поручились за уже упомянутого нами сержанта полка Томаса Гейса Максима Иванова, отправлявшегося в Олонецкий уезд для сыска и высылки солдат33.
С самого начала войны с Речью Посполитой остро встал вопрос о регулярном продовольственном и вещевом обеспечении олонецких полков, поскольку уже осенью 1654 года солдаты полка Александра Гамильтона столкнулись с дефицитом провианта [7: 134]. В это же время источниками фиксируются первые побе-ги34, вызванные, с одной стороны, дефицитом продовольствия, а с другой – нежеланием нести «дальнюю службу», освобождение от которой изначально было в числе условий при формировании полков пашенных солдат и драгун [6: 129, 133]. Ситуация усугубилась к началу 1660-х годов, когда финансовый кризис, вызванный денежной реформой, практически создал коллапс в российской экономике. При таких обстоятельствах рядовой состав армии, поставленный на грань голода мощнейшей инфляцией и прекращением продовольственных поставок, ответил массовым дезертирством35. В совокупности с общим упадком дисциплины и деморализацией вследствие тяжелейших поражений под Полонкой и Ляховичами летом 1660 года [4: 248–250] хорошо обученный младший командный состав олонецких полков «нового строя» из инструмента по управлению рядовыми солдатами трансформировался в распространителя мятежных настроений, что напрямую отразилось на специфике дезертирства 1662 года, в особенности побегах, устроенных сержантами Мирошкой Осиповым, Климкой Федоровым, Илюшкой Мартемьяновым, Фетькой Тимофеевым и Ефтюшкой Семеновым.
Однако высокая степень должностной ответственности, с одной стороны, и роль организатора побега, с другой, предполагала более серьезные, в сравнении с рядовыми, наказания за дисциплинарные нарушения. В то время как в 1660-е годы к рядовым солдатам за побеги довольно редко применялось наказание, сержанты, например, за халатность в деле сыска могли быть поставлены на правеж, как это было в октябре 1660 года в Оштинском погосте, то есть были избиты батогами36, или за организацию массового побега могли быть повешены, как сержанты полка Ягана Трейдена Мирошка Осипов и Климка Федоров в июне и августе 1662 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению некоторых исследователей, дезертирство в армиях раннего Нового времени – это радикальная форма сопротивления, возникавшая в экстремальных условиях и вовлекавшая в себя лишь меньшинство солдат [8: 97]. Однако относительно олонецких полков «нового строя» можно с уверенностью утверждать, что дезертирство в данных подразделениях было вполне распространенным ответом на экономические, военные и социальные трудности, с которыми солдаты не собирались мириться. Объединяющую и организующую функцию при этом выполняли представители младшего командного состава: капралы, каптенармусы и, особенно, сержанты. Они, осуществляя функцию надзора, были главной опорой офицерства и посредниками в управлении солдатскими массами. Кроме командования в боевых условиях, сержанты были задействованы в системе сыска и возвращения в строй беглых солдат в качестве рядовых исполнителей: они являлись информаторами сыщиков, под руководством сыщика проводили разыскные мероприятия, участвовали в составе дезертирских конвоев. Но, с другой стороны, сержанты и другие младшие командиры были такими же выходцами из крестьянской среды, как и вверенные им солдаты, связанными с ними земляческими и родственными отношениями. Кроме того, являясь опытными бойцами-ветеранами, сержанты пользовались доверием у рядового состава. Будучи выше по отношению к рядовым в военной иерархии, но оставаясь ровней в сословном статусе и общественном положении, сержанты и солдаты в равной мере испытывали все тяготы войны. В результате сержанты часто становились распространителями мятежных настроений в подразделениях и возглавляли организованные ими же массовые солдатские побеги со службы.
Таким образом, балансирование между служебными воинскими обязанностями и социальными ожиданиями с чувством солидарности с земляками-солдатами есть суть социально-ролевого дуализма сержантов. Увеличение масштабов дезертирства, в том числе организованного, в 1660-е годы показало нарушение данного баланса: управленческая опора, на которую надеялись офицеры, по сути своей стала нелояльной и опасной массой, угрожающей боеспособности армии. Просуществовав в таком неустойчивом положении почти до конца русско-польской войны, в 1666 году олонецкие полки «нового строя» были расформированы. Дальнейшее изучение «сержантской опасности» способно углубить понимание роли «промежуточного звена» во взаимоотношениях властных структур и населения, в особенностях реакции «безмолвствующего большинства» на механизмы различных институтов принуждения.
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. 4. Л. 105–106 об.
Там же. Д. 5. Л. 478.
Там же. Л. 234.
Там же. Л. 88.
Там же. Л. 83.
Там же. Л. 211.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 98. К. 4. Д. 1. Сст. 59.
Там же. Сст. 12; К. 3. Д. 82. Сст. 14.
Архив СПбИИ РАН. Ф. 98. К. 4. Д. 1. Сст. 38.
Список литературы Дезертирство и дуализм социально-ролевых функций младшего командного состава олонецких полков «нового строя»
- Бочкарев А. С. Конфликты олонецких солдат с воинским командованием: мятеж 1662 года // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42, № 8. С. 93-100. 10.15393/uchz. art.2020.553 DOI: 10.15393/uchz.art.2020.553
- Жуков А. Ю. Управление и самоуправление в Карелии в XVII в. В. Новгород, 2003. 256 с.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. 943 с.
- Курбатов О. А. "Литовский поход 7168 года" князя И. А. Хованского и битва при Полонке // Военные реформы в России второй половины XVII в. Конница. М., 2017. С. 226-250.
- Малов А. В. Командный состав частей солдатского, рейтарского, драгунского и гусарского строя от появления их в России до роспуска после окончания Смоленской войны: иерархия и номенклатура чинов. 1628-1636 гг. // Три даты трагического пятидесятилетия Европы. Россия и Запад в годы Смуты, религиозных конфликтов и Тридцатилетней войны. М., 2018. С. 221-237.
- Мюллер Р. Б. Очерки по истории Карелии XVI-XVII веков. Петрозаводск, 1947. 175 с.
- Новосельский А. А. Очерк военных действий боярина Василия Петровича Шереметева в 1654 г. на новгородском фронте // Исследования по истории эпохи феодализма. М., 1994. С. 117-135.
- Berkovich I. Motivation in war. The experience of common soldiers in old-regime Europe. Cambridge University Press, 2017. 268 p.