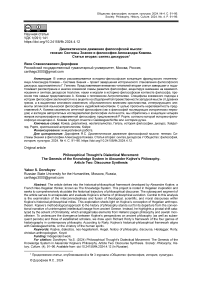Диалектическое движение философской мысли: генезис системы знания в философии Александра Кожева. Статья вторая: синтез дискурсов
Автор: Дорофеев Я.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается историко-философская концепция французского неогегельянца Александра Кожева - Система Знания - проект завершения исторического становления философского дискурса, вдохновлённого Г. Гегелем. Представляемая вниманию читателей вторая статья завершает и подытоживает рассмотрение и анализ кожевской схемы развития философии, акцентируя внимание на взаимоотношении и синтезе дискурсов теологии, науки и морали в историко-философском контексте философа, проясняя тем самым представление А. Кожева о гегелевском Антропотеизме. Специфика кожевского подхода к истории философии заключается не в акценте на общепринятой преемственности западной мысли от древних греков, а в выделении ключевого изменения, обусловленного влиянием христианства, интегрирующего элементы эллинской языческой философии и иудейский монотеизм. С целью прояснить нерелевантность представлений А. Кожева касательно античной философии (как и философий последующих исторических периодов) и взглядов авторитетных исследователей философии Античности, мы обратились к концепции четырёх жанров историографии в современной философии, предложенной Р. Рорти, согласно которой историко-философскую концепцию А. Кожева следует отнести к Geistesgeschichte или «истории духа».
Кожев, диалектика, неогегельянство, гегель, история философии, дискурс, хайдеггер, рорти, христианский антропологизм, койре
Короткий адрес: https://sciup.org/149145011
IDR: 149145011 | УДК: 1(091):141 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.12
Текст научной статьи Диалектическое движение философской мысли: генезис системы знания в философии Александра Кожева. Статья вторая: синтез дискурсов
Введение . Данная статья продолжает первую часть исследования (Дорофеев, 2024), завершая и подытоживая обзорный анализ историко-философской концепции А. Кожева, изложенной в его трёхтомнике «Толкующая интерпретация истории языческой философии», написанном в середине 1950-х гг. Как было показано в предыдущей статье, исторический путь движения философской мысли лежит через диалектическое преодоление последовательных дискурсивных оппозиций, избегая пробелов ровно до тех пор, пока не достигнет точки преобразования в Систему Знания. Однако решающим компонентом, без которого финализация становления гегелевской Мудрости невозможна, оказалась иудео-христианская мораль, поскольку именно она устраняет дисбаланс, установившийся в сократическом философском дискурсе между античными дискурсивными компонентами.
Анализируя кожевскую схему развития философии, мы также не можем не отметить, что рассуждения А. Кожева о философии языческой Античности (впрочем, как и о философиях последующих исторических этапов) нельзя считать релевантными тем представлениям, которые имеются у профессиональных исследователей античной философии, например, таких как Г. Дильс, Э. Брейе, П. Адо, Дж. Барнс, Л. Бриссон, М. Канто-Спербер и т. п. Однако на эту проблему можно посмотреть гораздо шире, для этого мы обратимся к четырём жанрам историографии в современной философии, согласно Р. Рорти.
Экстраполируя схему дискурсивного генезиса на «Феноменологию Духа», А. Кожев иронически иллюстрирует диалектику социально-сословной антропологии, пробуя при этом прояснить вне-христианскую суть синтетической дискурсивной Мудрости, которая диалектически снимает дискурсивное противопоставление между религиозным теизмом и научным атеизмом. «Дискурс, – пишет А. Кожев, – возникает как элементарный или практический и противопоставляет себя исключительному или теоретическому» (Kojève, 2018: 213).
Если мы рассматриваем синтез тетического действия Господина и антитетического действия Раба как единый тотальный дискурс, то в этом случае их паратезис следует понимать одновременно как проявление: элементарного дискурса в лице тетического дискурсивного действия Гражданина; исключительного дискурса через деятельную речь Интеллектуала; синтетического дискурса паратетического дискурсивного созерцания Философа. Если Гражданин – это Аристократ в тетическом аспекте и Плебей в антитетическом, тогда он паратетический Буржуа.
Аналогичным образом, через триаду «тезис-антитезис-паратезис» А. Кожев пропускает дискурсивную последовательность аксиоматизма, скептицизма и догматизма, в результате чего можно сказать, что аристократический тетический Интеллектуал аксиоматичен, антитетический Плебей скептичен, в то время как паратетический Буржуа догматичен.
Ответ на напрашивающийся вопрос, кто же в таком случае является результатом синтеза, следующий – Человекобог. При этом отождествлять данное понятие с Богочеловеком здесь, на наш взгляд, ошибочно, поскольку во втором варианте, ассоциируемом с образом Христа, заложена концепция его неизменного совершенства, исходящего из единения с небесным, вечным и трансцендентальным, из единосущности с Богом Отцом. Тогда как Человекобожество предполагает появление и достижение своего божественного совершенства внутри земного времени посредством интроспективного осмысления собственной идентичности, а также посредством своего исторического действия, исходя из индивидуализированных, но не основанных на религиозных переживаниях, внутренних представлений.
Продолжая разбирать историко-философскую концепцию А. Кожева, заметим, что аксиоматическая Теология предстаёт тетически аристократической, Наука – антитетически плебейской, а паратетическая Мораль – буржуазной. В качестве тезиса Теологии присущ теизм, тогда как для Науки в своём антитезисе характерным является атеизм.
Таким образом, синтез господства и рабства, по сути дела, является снятием дискурсивной оппозиции между религиозным теизмом и научным атеизмом, и завершается устранение этого противопоставления гегелевским Антропотеизмом, осуществляясь в Человекобожестве. «Eсли Человек – это ангел для Теолога-теиста и зверь для атеистической Науки, и если он не есть ни ангел и ни зверь, но Дух для Системы Знания, то это потому, – пишет А. Кожев, – что Дух есть трансформация иудео-христианского Dieu (не языческого Theos), который одновременно является и Зверем, и Ангелом, поскольку он также является Человеком» (Kojève, 2018: 225).
При этом если модель иудео-христианского человека обладает животно-божественной природой, поскольку это Бог, ставший человеком, то фигура гегелевского Мудреца – это «Бог одушевлённый, то есть Дух, или даже Человек, ставший Богом» (Kojève, 2018: 225). Очевидно, в этом утверждении проявлено прямое влияние учения о Богочеловечестве и Софии в философии
В.С. Соловьёва1, которое А. Кожев к тому моменту успел испытать при изучении и написании своей диссертации, посвящённой религиозной метафизике русского философа. Но, как можно заметить, соловьевская идея обретает у А. Кожева несколько инвертированный вид, обусловленный кожев-ским «атеизмом».
Устранив антитезу между дискурсами тетической теологии и антитетической науки, Система Знания, не будучи ни теологией, ни наукой, также не является и моралью, в отличие от синтетического паратезиса И. Канта. Мораль, как паратезис, поддерживает в оппозиции обе стороны и, следовательно, не может её никак устранить. В той мере, в какой в морали преобладают дискурсивные элементы теологии, либо науки, она будет оставаться языческой. Иудео-христианская мораль, напротив, представляет собой уравнивающий принцип, основанный на балансе составных элементов теологического и научного дискурсов посредством темпорализации концепции Вечного (Дорофеев, 2024: 77).
По мысли А. Кожева, философия в принципе является аналогом теоретической морали, что объясняет наличие моралистических элементов в составе каждой философской системы, это особенно заметно в философиях сократического паратеза как первой попытки согласовать между собой тетическую Теологию Парменида и антитетическую Науку Гераклита. Учитывая, что те или иные компоненты могут преобладать над остальными, А. Кожев характеризует философию первого как научно-моральную Теологию, а философию второго – как тео-логико-моральную Науку.
Здесь оценка А. Кожева, на наш взгляд, близка к правде, поскольку аксиоматические законы парменидовской философии выдают в себе элементы морали с превалированием Теологии там, где они исключают какую бы то ни было множественность и отрицают идею изменчивости, постулируя Единое как абсолютное единство сущего, тем самым утверждая высшую единую реальность, открытую лишь разуму, отменяя при этом смерть и небытие. Философия Гераклита, напротив, утверждает укоренённость изменчивости во всём существующем, возводя это одновременно в обязательное условие и субстанциональный предикат всего реального, подлинного и совершенного, фокусируя своё внимание на эмпирической реальности.
В свою очередь, сократическую философию А. Кожев рассматривает в качестве научнобогословской морали, где тетическая философия Платона2 – это научно-теологическая мораль, а антитетическая философия Аристотеля – тео-логико-научная мораль.
Если сопоставить историко-философскую концепцию А. Кожева с четырьмя жанрами историографии в современной философии, предложенными Р. Рорти, то, очевидно, её следует отнести к Geistesgeschichte или «истории духа», представителями которой, согласно Р. Рорти, являются Г. Гегель, К. Маркс, М. Хайдеггер, Г. Рейхенбах, М. Фуко, Х. Блюменберг и А. Макинтайр.
Основанием так утверждать служит особый фокус внимания А. Кожева, сосредоточенный на генеалогии философской проблематики, упрощающий путь развития философии, превращающий её в схематизированный и последовательный сюжет, в котором многие крупные античные философские традиции, как, например, эпикуреизм, стоицизм и неоплатонизм, отпадают за ненадобностью и остаются на заднем плане.
К слову, подобную ситуацию мы обнаруживаем у М. Хайдеггера в предпринятой им попытке «деструкции» всей историко-философской традиции в «Бытии и времени», где кроме незначительного упоминания стоической интерпретации аффектов (Heidegger, 2022: 139) и её дальнейшей передачи через патристику (Heidegger, 2022: 199) и средневековую схоластику до Нового времени, про указанные философские школы вообще нет ни слова. Дело в том, что философ данного типа исследования, как пишет Р. Рорти, «определяет, что представляет ценность для философии и заслуживает продумывания, а что нет, – какие вопросы являются “случайными” и “произвольными”, а какие относятся к сути дела» (Рорти, 2001: 189).
Таким образом, А. Кожев легитимирует определённый образ философии, формируя свой философский канон. Вопреки недостаткам, Р. Рорти также признаёт преимущество данного историографического «жанра» перед рациональной и исторической реконструкциями: «ясное представление об исторической изменчивости философской проблематики» (Рорти, 2001: 189) и готовность в любой момент её переформулировать, что, кстати, демонстрировал в своих воззрениях А. Кожев. Согласно И.С. Куриловичу «Кожев писал о “радикальном” изменении своего виденья пост-истори-ческого “вечного настоящего” после поездки в Японию в 1959 году» (Курилович, 2019: 163).
Также «роль Geisteshistoriker’а, – пишет Р. Рорти, – идентична роли “мудреца” в древнем мире: указывать путь, который ведёт к решению “важных” проблем, к “истине”, и предупреждать возможные случайные отклонения от этой линии, обуславливаемые эпифеноменальными факторами» (Рорти, 2001: 189).
По нашему мнению, наиболее интересная особенность концепции истории философии А. Ко-жева в том, что она указывает не на привычную классическую преемственность западной мысли от Древней Греции, но учитывает иной существенный момент движения философской мысли, продиктованный появлением христианства как паратезиса эллинской языческой философии и иудейского единобожия.
Христианский догмат о Боговоплощении, сыгравший, согласно А. Кожеву, основополагающую роль в становлении новоевропейской науки, предопределил возникновение синтетического паратеза кантовской философской системы, в которой разнородные дискурсивные компоненты противоположенных античных философских учений удалось сбалансировать между собой, установив таким образом «христианское» равновесие между Господином и Рабом, что в дальнейшем подготовило их слияние воедино. Это указывает на то, что в тексте «Толкующей интерпретации истории языческой философии» А. Кожев продолжил развивать свою прежде обозначенную идею во «Введении», где он утверждал, что если Науке не дано постичь символический смысл Религии, то философия Г. Гегеля, как абсолютная Философия, единственная реализует это, имея в виду христианство, постигнутое ею в качестве теантропизма, богочеловечества Иисуса Христа: «Для Христианина Бог становится Человеком; в конце своей исторической эволюции Человек становится Богом или, точнее, он есть Бог, которым он становится в ходе эволюции, взятой в целом» (Кожев, 2003: 54).
Впоследствии Человек, прежде не обретавший себя как человека ни в трансцендентном Боге, ни в Природе, становится Разумом и уже с этой позиции перестаёт разграничивать Субъект и Объект, отождествляя их друг с другом. В итоге Человек объединён с Миром в одно целое, поскольку он, как Субъект, теперь предстаёт частью Природы, а не потому, как поясняет А. Кожев, что Мир – Дух. При этом Мир оказывается истинной действительностью, конкретной, «божественной», которая раскрывается Человеком в ходе истории1 – «он включает в себя Человека, который его ощущает, воспринимает, мыслит и говорит о нём – в конечном счёте в “Феноменологии” и “Энциклопедии”, т. е. в “Системе”» (Кожев, 2003: 55).
Стоит также отметить, что прежде А. Кожева немаловажные шаги были проделаны другим французским философом А. Койре. Рассуждая о появлении и этапах развития новоевропейской науки в своей статье «От мира “приблизительности” к универсуму прецизионности», А. Койре объясняет, почему математическая физика зародилась в XVII в. и почему она не возникла двадцатью веками раньше в Древней Греции.
С точки зрения А. Койре, эллинистическая наука заложила своими исследованиями пяти «движущих сил» (простых машин) основы технологии, но отказалась от её развития. В этом смысле, несмотря на внедрение многочисленных элементов геометрии и механики в τέχνη, в себе самой античная техника оставалась на пред-технологической, пред-научной стадии, не разработав физику, которая бы применяла строгие и точные математические понятия и описывала бы действительные физические законы Земли (Курилович, 2020: 30). Объясняется это тем, что идея о строгой прецизионности применялась греческой наукой только относительно надлунного мира, аристотелевской небесной сферы, утверждая при этом неприменимость математики к сфере подлунной.
В дальнейшем намеченная А. Койре интенция была подхвачена и развита А. Кожевым в статье «Христианское происхождение науки», где он характеризует языческий мир как замкнутый и приблизительный, в котором божественный порядок и точность, свойственные надлунной сфере вечного звёздного неба, не применимы в отношении подлунных явлений и процессов. Однако будучи совершенно не имеющим никакого отношения к языческой теологии и являющимся подлинно христианским, догмат о Боговоплощении элиминирует некогда непреодолимый заслон «двойной трансцендентности Бога»1, идея о которой была укорена в сознании древних греков, позволив таким образом Логосу, или Слову, обрести физическую плоть в человеке, дабы затем, по достижении дискурсивной Мудрости, он смог стать «смертным Богом».
Список литературы Диалектическое движение философской мысли: генезис системы знания в философии Александра Кожева. Статья вторая: синтез дискурсов
- Дорофеев Я.С. Диалектическое движение философской мысли: генезис Системы Знания в философии Александра Кожева. Статья первая: диалектика и дедогматизация // Общество: философия, история, культура. 2024. № 3. С. 74-79. DOI: 10.24158/fik.2024.3.8 EDN: DLTFHZ
- Кожев А. Введение в чтение Гегеля / пер. с нем. и послесл. А.Г. Погоняйло. СПб., 2003. 792 с. EDN: XVULBD
- Кожев А. Религиозная метафизика Владимира Соловьёва // Атеизм и другие работы. М., 2006. С. 175-257.
- Курилович И.С. Бог распятый в основании новоевропейской науки и источники интерналистского антипозитивизма. Статья первая: Койре // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2020. № 3 (22). С. 24-35. DOI: 10.28995/2073-6401-2020-3-24-35 EDN: BOZEES
- Курилович И.С. Французское неогегельянство. Ж. Валь, А. Койре, А. Кожев и Ж. Ипполит в поисках единой феноменологии Гегеля - Гуссерля - Хайдеггера. М., 2019. 224 с. EDN: MGXJYC
- Платон. Тимей / пер. С.С. Аверинцева // Собрание сочинений: в 4 т. / пер. с древнегреч.; общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; вступ. ст. и ст. в примеч. А.Ф. Лосев; примеч. А.А. Тахо-Годи. М., 1994. Т. 3. 654 с.
- Рорти Р. Историография философии: четыре жанра // Джохадзе И.Д. Неопрагматизм Ричарда Рорти. М., 2001. С. 182-198.
- Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2002. 449 s. (на нем. яз.).
- Kojève A. Essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne. Vol. 3. La philosophie Hellénistique, Les néo-platoniciens. P., 2018. 532 p. (на фр. яз.).