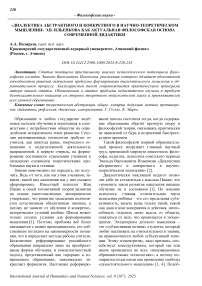«Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении» Э.В. Ильенкова как актуальная философская основа современной дидактики
Автор: Поляруш А.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена пристальному анализу педагогического потенциала философских взглядов Эвальда Васильевича Ильенкова, реализация которого обладает объективной способностью решения актуальной проблемы формирования диалектического мышления в образовательном процессе. Анализируемый текст сопровождается практическими примерами автора данной статьи. Обозначенная в статье проблема недостаточно изучена и требует безотлагательного внимания со стороны теоретиков педагогической науки и преподавателей всех уровней образования.
Теоретическая абстракция, общее, эмпирия, дедукция, истина, противоречие, дидактика, рефлексия, движение, саморазвитие, Г. Гегель, К. Маркс
Короткий адрес: https://sciup.org/170210883
IDR: 170210883 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-230-235
Текст научной статьи «Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении» Э.В. Ильенкова как актуальная философская основа современной дидактики
Образование в любом государстве ведёт поиск методов обучения и воспитания в соответствии с потребностями общества на определённом историческом этапе развития. Сегодня инновационные технологии требуют от учителя, как никогда ранее, творческого отношения к педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на формирование постоянного стремления учеников к овладению сложными теоретическими проблемами науки и техники.
Знания невозможно ни передать, ни получить. Ведь от того, как мы учим учеников, зависит, какой вид мышления мы у них сможем сформировать. Известный психолог Жан Пиаже в своей когнитивной теории развития на основе многочисленных экспериментов утверждает, что развитие мышления подчиняется естественным объективным законам, а потому не зависит от обучения и конкретноисторических условий вообще. Школа может только создать условия для формирования мышления [1]. Поэтому проблема всё более связывается с самим преподавателем, его собственным взглядом на закономерности познания, что и определяет методы работы учителя. Бесконечное реформирование российского образования направлено лишь на преобразование формы обучения, и компетентностный подход, представленный как «прорыв» в современном образовании, максимально закрепляет формализм. Настоящее реформиро- вание школы состоится тогда, когда содержание образования обретёт прочную опору в философской теории, оказываясь практически не зависимой от бурь и потрясений быстротекущего времени.
Такой философской теорией образовательный процесс вооружает главный научный труд, принесший мировую известность философа, педагога, психолога советского периода Эвальда Васильевича Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в научнотеоретическом мышлении» [2].
Диалектически мыслящий педагог позволит себе не согласиться с мыслью Пиаже, что «изменить закон развития мышления никакое обучение не в состоянии» [1]. По мнению психолога, главная отличительная черта мышления ребёнка - это его предельная субъективность, видеть вещь только такой, какой она дана в зоне восприятия и действия, неспособность отделить свою мысль от объекта, отвязаться от него, что проявляется в эгоцентризме. Эгоцентризм детского мышления -это «субъективная истина» студента, который любит настаивать на относительности знания, на правомочности любой субъективной позиции. Этому эгоцентризму, надо признать, способствует конструктивизм, который так или иначе проявляется во всех «инновационных образовательных технологиях», а потому поощряется педагогами как проявление свободы «самостоятельного мышления» [3, 4]. Подоб- ные ситуации в студенческой аудитории Г.В. Лобастов, ревностный последователь Э.В. Ильенкова, называет «беспомощным барахтаньем инфантильного мышления [5].
Изменить этот сложившуюся порочную педагогическую реальность можно лишь при условии замены содержания образования как формирование знаний, умений и навыков на преобразование сознания, когда субъективизм уступает объективной точке зрения на мир, когда эмпирия сдаёт свои позиции перед осознанием объективного закона существования предмета. Без опоры на диалектику этой грандиозной образовательной задачи не обойтись, как показала безуспешная образовательная практика, генерирующая всё новые подходы.
Любая наука представляет собой систему понятий, максимально стремящуюся к установлению истины. Э.В. Ильенков начинает свой исследовательский труд с известного среди философов постулата, что абстрактной истины нет, что истина всегда конкретна. Но здесь же приводит и противоположный тезис, что абстракция есть всеобщая форма, через осмысление которой только и возможно достижение объективной истины. Здесь нет никакого разногласия, в этом кажущемся несоответствии как раз и заключается их диалектическое, неразрывное, внутреннее единство, выявление которого является условием теоретического познания.
Основы для решения и освещения вопроса о диалектике абстрактного и конкретного изложены в труде Г. Гегеля «Кто мыслит абстрактно?», в котором он ломает традиционное представление о конкретном как о некотором предмете, воспринимаемом непосредственно органами чувств, меняя его на всестороннее восприятие. То, что обыденное познание принимало как конкретное, на самом деле есть абстрактное, частичное, выдернутое из ансамбля признаков объекта (abstractio (лат.) - отвлечение) [6]. Концепция абстракции, которая занимает в работе Ильенкова исходную позицию, для обучения имеет ключевое значение, поскольку именно они - абстракции - являются средством, обеспечивающим людям отграничение основных закономерностей от частных случаев.
Э.В. Ильенков проводит глубокий научнотеоретический анализ процесса познания, за- ложенного К. Марксом в его знаменитой работе «К критике политической экономии», прорисованной в координатах теоретикопознавательных идей Гегеля, но понятой глубже и продуктивнее своего великого соотечественника. У абсолютного идеалиста Гегеля сущность единичного и особенного содержится в понятии как таковом, которому присуще саморазвитие. С диалектикоматериалистических позиций, все богатство определения содержится не в «понятии», а в реальном объекте, находящемся в движении, а уже отсюда - и в движении соответствующего понятия.
Далее Ильенков заостряет внимание на важнейший момент, способствующий чёткому осмыслению диалектики абстрактного как всеобщего и конкретного как единичного. Здесь нужно оговорить еще один важнейший для понимания проблемы момент. Абстрактное, как мы выяснили выше, выхватывает непосредственно одну сторону предмета. Но если абстрактное фиксирует ту сторону, которая выступает необходимым моментом внутренней взаимосвязи всех сторон объекта как единого развивающегося (!) целого, тогда такое абстрактное приобретает статус категории всеобщего. Когда выявлено свойство предмета, обусловливающего неразрывную взаимосвязь всех его свойств, определяющих все формы существования предмета, значит, мы достигли конкретности. Э.В. Ильенков не устаёт фокусировать внимание на методологическом значении требования «конкретности». Это взаимозависимость и взаимообусловленность всех сторон предмета. И тут же подчёркивает, что мышление в виде всеобщего выделяет всеобщее не только как исходное условие жизни объекта как целого, но и также необходимым и предопределённым продуктом взаимодействия всех сторон этого целого [2]. Эта диалектика находит своё выражение в философской категории причинноследственных связей.
Иллюстрацией положения о том, что критерием правильно выделенной абстракции из всего ансамбля признаков является признак, обусловливающий развитие целого, И.В. Ильенков ссылается на пример К. Маркса. Трудовая деятельность есть всеобщее и конкретное, определяющее человека, потому что «остается на всем пути развития человечества той всеобщей основой, на которой только и возможно появление всех остальных форм человеческой деятельности», включая искусство, науку и образование [2]. Приведём свой аналогичный пример из естествознания: углерод есть то всеобщее и конкретное, что заложено в основе воспринимаемых органами чувств как абсолютно разные сущности каменный уголь, графит и алмаз. Но именно углерод на основе особенностей химического строения атома в своём развитии и принял конкретные формы кристаллических решёток, обусловил определённые температуры плавления, цвет, твёрдость этих трёх форм единой сущности, а не эти перечисленные признаки обусловили появление углерода. Это отрефлексированное знание содержит в себе прикладной потенциал: практически можно получить искусственный алмаз из графита, а также можно разрезать алмазный кристалл, в то время, как нам известно, это самый твёрдый минерал, который ничем невозможно разрезать непосредственно.
Итак, на вопрос, какой из многообразных признаков предметов одного класса выделить как всеобщий, т.е. осуществить абстрагирование, диалектик Ильенков даёт чёткий методологический ответ: тот признак, который выступает причиной саморазвития. Что же является причиной саморазвития вообще? На этот вопрос в своё время ответил Г. Гегель: причиной развития являются возникновение и разрешение внутренних противоречий самого объекта.
После проведённого анализа категорий абстрактного и конкретного с диалектических позиций Ильенков вновь возвращается к рассмотрению этих категорий, чтобы прояснить первоначальную трактовку соотношения абстрактного и конкретного как различие между односторонним и всесторонним охватом предмета как целого. Это задача выполнима при том строгом условии, что само побуждение к всесторонней характеристике понимается диалектически, а не эклектически, как механистический набор свойств предмета, явленных исследователю органами чувств. В том-то и дело, что конкретное знание вовсе не обязано воспроизводить все без исключения стороны, мелкие детали, непосредственно или опосредованно относящиеся к рассматриваемому предмету. Оно должно вскрывать внут- реннюю взаимосвязь, выражающую его специфическую природу. Здесь уместным будет пример с донорством крови. Медицине сегодня известно несколько систем совместимости - несовместимости этой жизненно важной ткани, возможно, их ещё больше, но на современном этапе развития науки их количество пока не открыто. Однако при переливании крови реципиенту от донора учитываются только две: система АВО (группа крови) и резус-фактор - самые существенные, определяющие взаимосвязи всех компонентов крови и последствия переливания соответственно. Все другие не являются таковыми.
Другими словами, конкретное рассмотрение представляет собой всесторонность рассмотрения с учётом всех условий, влияний и прочих факторов, но это не означает торжества эмпирии. Это конкретное достигнуто абстрагированием, теоретическим мышлением. Подделкой «ползучего эмпиризма» (выражение, приписываемое Ф. Бэкону и используемое Лениным) под теоретическое мышление наполнено наше современное образование. Бессвязная фактология, искусственно смонтированные так называемые межпредметные связи на основе внешнего сходства, триумфальное в своё время проблемное обучение, выдающее себя за развивающее [7], учебные программы блочного типа и такие же учебники - всё это наша педагогическая безответственность, создающая иллюзию стремления к конкретности и истине, а на самом деле выражающая пренебрежение сущностью предмета, утопленного во второстепенных деталях. Где открыт простор для субъективизма, где одна абстракция (в дурном смысле) заменяется другой, там нет стремления к установлению истины в её конкретности. Трудно не узнать в этой картине наших федеральных государственных образовательных стандартов с нескончаемым перечнем компетенций или проектного метода, искажающих мышление учеников и учителей.
Ильенков строго предупреждает, что овладение теоретической абстракцией, т.е. противоречием требует большого интеллектуального напряжения и специальной философской подготовки. В «Науке Логики» Г. Гегель едко и бескомпромиссно заметил: «Природа не виновата в том, что вы не видите в ней противоположностей, а виноват ваш ум, дремлющий на подушке лености» [8]. Действительно конкретное понимание означает объективную сущность предмета в его развитии, т.е. движении противоречий, что нелегко поддаётся мышлению. А примитивно и ложно понимаемое конкретное как «всестороннее» рассмотрение не требует культуры ума, поскольку любой предмет можно описать бесконечным числом его характеристик, реальных и воображаемых, прямых и опосредствованных по принципу «в каждой капле воды отражается все богатство вселенной» [2] или «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Как нетрудно заметить, учителя поощряют подобную субъективность, выдавая её за свободу и самостоятельность мышления воспитанников, потому что сам учитель не имеет необходимой философской и методологической подготовки и мотивации к самообразованию. Здесь опять уместно обратиться к остроумному и беспощадно принципиальному Гегелю: «Мыслить? Абстрактно? Спасайся кто может!» [6].
Эмпирия вольна видеть различные «очевидные» связи объекта, но они не в состоянии выразить природу (сущность) объекта в отличие от тех, которые фиксирует теоретический уровень, хотя теоретические абстракции и кажутся менее всего связанными с природой объекта, кажутся субъективными, произвольно конструируемыми и далёкими от очевидности.
Правильным научным мышлением Э.В. Ильенков вслед за Г. Гегелем утверждает - это способ «восхождения от абстрактного к конкретному». Правильное, а не примитивное обыденное понимание отношения конкретного и абстрактного приводит сознание к выводу, что всякое конкретное воплощается в результате теоретического рассмотрения предмета, а не является исходным его пунктом. В методическом плане реализация этого диалектического требования выражается в критическом отношении к пресловутому дидактическому принципу наглядности, в пересмотре его места в образовательном процессе, чему Эвальд Васильевич уделяет особое внимание в книге «Философия и культура» [9].
Каким же образом мышление продвигается от абстрактного к конкретному, по-иному: какова идеальная последовательность этапов обобщения, воспроизводящая систему появления и развития вещи? В методическом ис- полнении этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Если бы речь шла о механической системе, то решение этого вопроса не вызывало бы затруднений. Но если предмет понимается как продукт саморазвития, что и является критерием правильного абстрагирования, то алгоритм теоретического осмысления имеет ключевое значение.
Разумеется, любой предмет в своём движении разворачивает принцип, но его рефлексия в учебном процессе есть специальная задача. Эта задача заключается в осознании той закономерности, что движение предмета порождает собой определённые формы, связанные между собой именно правильно выбранной абстракцией, которая и представляет собой теоретическое обобщение. Поэтому, в противоположность репродуктивному методу, здесь, наоборот, необходимо отказаться от наличных представлений о предмете, сущность которого предстоит вывести и оформить в соответствующем понятии.
Г.В. Лобастов на вопрос, с чего же начать формирование конкретного понятия в учебном процессе, отвечает: «С начала!» [5]. Найти это начало, значит, сокрушить схема-тизмы обыденного сознания, поскольку исходные категории представляют собою максимально предельные отвлечения от того, что представлено органами чувств. В вышеприведённом примере общим началом каменного угля, алмаза и графита является их биогенное происхождение. И в дальнейшем своём развитии, в какую бы форму ни превратился углерод, он в любом случае есть общее, существенное, конкретное, что и является научной основой для преобразовательной деятельности с группой его аллотропных видоизменений. Или: три агрегатных состояния воды обусловлены особенностями строения её молекулы, и, исходя из этого зафиксированного абстрактного (извлечённого) свойства и рассматривая его в движении в диалектическом смысле, выводим жидкое, газообразное и твёрдое состояния. Кстати, в проблемном обучении этот образовательный момент перевёрнут с ног на голову. Проблему можно сформулировать гипотетически так: «Докажите, что каждый из вас, подобно библейскому Христу, может ходить по воде». Решение проблемы лежит на поверхности, на эмпирическом уровне. Здесь не требуется теоретиче- ской абстракции и её движения, чтобы представить ответ на уровне представления. Все ощущали лёд органами чувств и ходили по нему ногами.
Ильенков даёт ценное замечание, имеющее особое значение для формирования детского мышления: чем больше закономерностей объ- екта привлекается к исследованию, чем «конкретнее» становится теоретическое изображение, тем оно больше отвечает представлению, которое процесс являет собой на поверхности, т.е. происходит как бы «примирение» теоретического и чувственного конкретного. Иначе говоря, достигается тождество субъективного и объективного, где нет уже места «детскому эгоцентризму», о котором говорилось выше.
Для диалектики вообще характерен не син- тез составных элементов, их «сведения» в расчленённом предмете, а, наоборот, выведение с точки зрения генетического развития. И единственной логической формой, которая обеспечивает такую точку зрения на познание предмета, «является восхождение от абстрактного к конкретному, а вовсе не воспарение ко все более широким по объему и со- ответственно все более скудным по содержанию абстракциям» [2]. В этом тезисе Ильенков прозорливо воспроизводит наш учебный процесс с его неуёмной фактологией, например, решение однотипных заданий по образцу.
Способ существования абстракции – это диалектическое противоречие, через разреше ние которого достигается конкретное, т.е. ис тина. Способ мышления как движение от аб страктного к конкретному есть тот един ственный способ, применение которого логи чески воспроизводит предмет как продукт са моразвития. Это ли не образец педагогиче ской методологии? Понятие в учебном про цессе должны не «вводиться», а выводиться в движении от идеального абстрактного к объ- ективному конкретному через реализацию всеобщего принципа противоречия. Оптимальным дидактическим приёмом выведения понятия через последовательное выявление и разрешение противоречий является моделирование, разработанное в системе педагогической технологии Способа диалектического обучения [10].