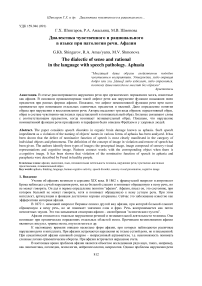Диалектика чувственного и рационального в языке при патологии речи. Афазии
Автор: Шингаров Георгий Христович, Амасьянц Роберт Акопович, Шмонова Марина Викторовна
Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu
Статья в выпуске: 4 т.17, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются нарушения речи при органических поражениях мозга, известные как афазия. В основном проанализирован такой дефект речи как нарушение функции называния имен предметов при разных формах афазии. Показано, что дефект номинативной функции речи ярче всего проявляется при номинации отдельных единичных предметов и явлений. Дано определение понятия образа при нарушении и восстановлении речи. Авторы выделяют три вида образов: перцептивный образ, образ в составе чувственно-наглядных представлений и познавательный образ. Больные связывают слова с соответствующим предметом, когда возникает познавательный образ. Показано, что нарушение номинативной функции речи при афазиях и парафазии были описаны Фрейдом и у здоровых людей.
Афазия, мышление, язык, познавательная деятельность человека, нарушение речи, чувственно-наглядные представления, познавательный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/14294759
IDR: 14294759
Текст научной статьи Диалектика чувственного и рационального в языке при патологии речи. Афазии
Учение об афазиях возникло в середине XIX века. В 1862 г. французский невролог и антрополог Брока наблюдал случай нарушения речи, когда больной слышит и понимает обращенную к нему речь, но не может говорить. Он дал и первое определение понятия "афазия". Афазия, писал он, это состояние, при котором больной не может говорить, хотя и понимает обращенную к нему устную речь. При этом интеллект, артикуляция и фонация достаточно хорошо сохранены. Сейчас это заболевание известно как эфферентная моторная афазия.
В 1872 г. немецкий невролог Вернике описал другой вид афазии, при которой больной слышит обращенную к нему речь, но не понимает значения слов и фраз. Речь воспринимается как поток непонятных звуков. Это так называемая сенсорная афазия – своеобразная "психическая глухота".
Афазия относится к тяжелым нарушениям речевой и познавательной деятельности человека. Она возникает при органических поражениях отдельных областей мозга. Причинами возникновения афазии являются: инсульт, травма мозга, опухоли мозга и др.
К настоящему времени описано несколько форм афазии, при которых наблюдаются различные нарушения речи и интеллекта. При афазиях встречаются нарушения не только устной речи, но и письменной. При семантической афазии основной синдром – импрессивный аграмматизм, т.е. невозможность понимать сложные логико-грамматические обороты. При афазии встречается нарушение счета.
В настоящее время проблема афазии является объектом исследования ряда наук, таких, например, как лингвистика, логопедия, психология, нейропсихология, неврология. Однако проблемы нарушения речи и ее восстановления практически не исследовались с точки зрения теории познания. В данной статье делается попытка подойти к пониманию некоторых аспектов афазии именно с этой точки зрения.
2. Афазия и ее формы
При афазиях страдают все уровни и системы речи - от наименования отдельных предметов до сложных форм мышления и речи (непонимание смысла слов, нарушения грамматического строя предложения, чтения, письма и счета и т.д.).
Практически при всех формах афазии встречается такое расстройство речи, как нарушение называния отдельных предметов, т.е. нарушается номинативная функция речи. При так называемой амнестической афазии, возникающей при поражении задневисочных-теменно-зрительных отделов мозга, наименование отдельных предметов является единственным и самым важным дефектом речи. Нарушение номинативной функции проявляется разными способами. Больной не может назвать предмет при демонстрации самого предмета или его изображения, он не может указать или выбрать из группы предметов нужный, не может нарисовать его и т.д.
Отдельное слово - имя предмета - является своеобразной абстракцией, в которой не дано никакого другого определения предмета, кроме его перцептивного образа и лексического значения. "Итак, - пишет Аристотель, - имя есть такое звукосочетание с обусловленным значением безотносительно ко времени, ни одна часть которого отдельно от другого ничего не означает" ( Аристотель , 1978b).
Перцептивное восприятие отдельного объекта или простое его называние дают сведения лишь об отдельных параметрах единичного объекта, но не могут создать целостный образ - представление о предмете. Называние отдельного предмета или простое его перцептивное восприятие имеют характер своеобразного подлежащего без всякого предиката. "Ведь о подлежащем - об отдельном человеке говорится как о человеке, но "человек" не находится в подлежащем, ибо "человек" не находится в отдельном человеке" ( Аристотель , 1978a).
Изучение номинативной функции языка, как и вся проблема расстройства речи имеет комплексный характер и является предметом таких наук, как неврология, психология, лингвистика, нейропсихология, педагогика, логопедия и др. Но специальных исследований нарушения номинативной функции речи при афазии с точки зрения эпистемологии в литературе почти нет.
О наличии нарушений номинативной функции речи при различных формах афазии можно судить по множеству ее клинических проявлений и экспериментальных данных. Мы уже указали на самые бесспорные и чаще встречающиеся проявления этого феномена.
В исследованиях Л.С. Цветковой ставится вопрос: какие характерные признаки выделяются больными легче и быстрее - признаки отдельно взятых предметов единичных предметов или вычленение обобщенных, характерных для целого класса предметов.
Эксперимент показал, что больные встречают затруднения при вычленении признаков на опытах с отдельными предметами. Легче выделяются признаки группы предметов.
Симптомы нарушения номинативной функции речи и парафазии З. Фрейд описал и проанализировал в таких своих работах, как "К вопросу о психическом механизме забывчивости" и "Психопатология обыденной жизни". В первой из указанных работ Фрейд рассказывает, как он начал заниматься проблемами психопатологии обыденной жизни, исходя из примера, взятого из его собственной жизни. В примере, о котором говорит Фрейд, речь шла о том, что он пытался вспомнить имя итальянского художника Синьорелли. Но вместо искомого имени в голову постоянно приходили имена Боттичелли и Больтраффио. Последние два имени Фрейд рассматривал как неверные. Но когда ему указали настоящее искомое имя, он сразу признал его.
В случае с Синьорелли Фрейда заинтересовало еще одно явление, которое очень часто встречается и при афазии - парафазии. Оказалось, что парафазии встречаются и в речи здоровых людей . "Для меня лично, - пишет Фрейд, - поводом для более внимательного изучения данного феномена послужили некоторые частности, встречавшиеся, если и не всегда, то все же в некоторых случаях обнаружившиеся с достаточной ясностью, это было именно в тех случаях, когда наряду с забыванием наблюдалось и неверное припоминание . Субъекту, силящемуся вспомнить ускользнувшее из его памяти имя, приходят в голову иные имена, имена заместители и если эти имена и опознаются сразу же как неверные, то они все же упорно возвращаются вновь с величайшей навязчивостью" ( Фрейд , 1989).
Существование симптомов нарушения номинативной функции речи и парафазий при афазиях и в психопатологии обыденной жизни говорит о том, что эти феномены имеют отношение к каким -то существенным и общим закономерностям человеческого мышления и языка.
Описанные выше феномены психопатологии обыденной жизни, согласно представлениям Фрейда, происходят на уровне предсознательного. Предсознательное, как считает Фрейд, - это место в психике человека, где происходит встреча предметных со словесными представлениями. Для ответа на вопрос о соотношении предметных и словесных представлений Фрейд ставит вопрос: "Каким образом что-либо становится предсознательным?" Ответ звучит следующим образом: что-либо может стать предсознательным при помощи синтеза его с соответствующими словесными представлениями.
Словесные представления - это следы воспоминаний о событиях, которые когда-то были сознательно восприняты, но по разным причинам забыты. Словесные представления, согласно Фрейду, содержат в себе представления предметные, оформленные словесно. Процесс узнавания имени происходит тогда, когда предметное представление приобрело форму словесного. Вопрос о предметных и словесных представлениях Фрейд подробно изложил в упомянутой выше "Психопатологии обыденной жизни", в "Я и оно", "Толковании сновидений" и др.
Что представляет собой слово, обозначающее отдельный предмет, как лексическая единица, проявляющая особые свойства при афазиях и психопатологии обыденной жизни? Анализ этой патологии показывает, что в нарушениях номинативной функции проявляются некоторые общие свойства процесса познания, которые исследовал еще Аристотель, рассматривающий каждое отдельно слово как имя.
В речи отдельные слова что-то обозначают как сказывание, но не как утверждение или отрицание. Слово "человек", - пишет Аристотель, - что-то правда означает, но не обозначает, есть он или нет, утверждение или отрицание получаются в том случае, если что -то присоединяется" ( Аристотель , 1978b).
Отдельное слово само по себе содержит какое-то определенное общее значение, заданное понятием, но не соотнесенное с каким -либо предметом или событием, не имеет конкретного значения. "Всеобщее, - писал Гегель, - тем, что оно всеобщее, отнюдь еще не обладает действительностью" ( Гегель , 2001).
Имя, согласно Аристотелю, может выполнять только функции подлежащего, но в подлежащем самом по себе вне высказывания не содержится суть предмета, суть находится вне отдельного предмета. Поэтому Аристотель пишет: "...ведь о подлежащем - об отдельном человеке говорится как о человеке, но "человек" не находится в подлежащем, ибо "человек" не находится в отдельном человеке " ( Аристотель , 1978а).
Мы уже вначале отметили, что человек мыслит при помощи понятий, а понимает при помощи образов, чувственного познания, которое всегда связано с процессами перцепции. Аристотель видел онтологическое основание этой закономерности в следующем: "Так, как, по-видимому, не существует никаких отдельных предметов помимо чувственно воспринимаемых величин, то предметы мысли находятся в чувственно постигаемых формах: сюда относится и то, что называется абстракциями, и то, что составляет свойства и состояния чувственно познаваемого, и поэтому не имеющий чувственных восприятий [человек] не научится и ничего разуметь не постигнет. Поскольку человек мысленно созерцает, необходимо, чтобы он созерцал в образах" ( Аристотель , 1937).
Произнося слово, обозначающее отдельный предмет, человек обозначает этот предмет как что -то единичное, воспринимаемое органами чувств. Этот предмет не определен, так как всеобщее в нем не соотнесено ни с чем конкретным. И чувственное восприятие предмета тоже имеет характер восприятия неопределенного единичного предмета. В таком случае как наименование отдельного предмета, так и его непосредственная перцепция органами чувств имеет характер перцептивного (чувственного) образа, не раскрывающего ничего конкретного и определенного в предмете.
Чувственный образ - это начало любого вида познания. Без него мышление не имеет выхода в реальный мир, без него слова пустые звуки.
Существуют формы афазии, в которых речь состоит из отдельных, не связанных между собой слов, так называемый "телеграфный стиль". Речь - простой набор слов. Но люди не так говорят. Связная речь получается тогда, когда слова соединяются в определенном порядке, подчиняясь общим правилам соответствующего языка.
Клиницистам-неврологам и логопедам хорошо известно, что при некоторых формах афазии наименование класса или группы предметов или не нарушается, или восстанавливается легко и быстро.
Такая же закономерность наблюдается и при нахождении слов - имен предметов, когда речь идет о словах, обозначающих признаки, качества, состояния и т.д. Такие слова актуализируются быстрее и легче. Качества, признаки, относящиеся к определенному предмету, имеют характер своеобразных предикатов этого предмета - подлежащего.
Если назван класс предмета, его вид или род и его имя встречается во фразовой речи, то больной намного легче и быстрее связывает имя предмета с самим объектом.
Названия родов, видов, группы предметов, общее определение Аристотель относил ко вторым сущностям. Когда речь идет о слове, обозначающем группу предметов, Аристотель говорит, что "в отличие от первых существует подлежащее здесь не нечто одно: о многих говорят, что они люди и живые существа. Вторые сущности отражают не любое простое качество, а существенное качество данного предмета. "Что же касается вторых сущностей, то из-за формы наименования кажется, будто они в равной степени означают определенное нечто, когда, например, говорят о "человеке" или о живом существе; однако это неверно. Скорее они означают некоторое качество, ведь в отличие от первых сущностей подлежащее здесь не нечто одно: о многих говорят, что они люди и живые существа. Однако вторые сущности означают не просто какое-то качество. Вид же и род определяют качество сущности: ведь они указывают, какова та или иная сущность" (Аристотель, 1978а).
К первым сущностям Аристотель относил отдельные предметы и явления в мире. Ко вторым сущностям - виды и роды, которые чувственно отдельно от их представителей не воспринимаются.
Мы уже видели, что слова - наименования отдельных предметов, при некоторых формах афазии трудно поддаются наименованию или больные не могут вообще связать их с соответствующим эмпирически существующим предметом. Но названия видов и родов предметов, групп предметов и отдельных качеств, как уже отметили, легко получают свое название. Это относится и к словам, являющимся частью фразеологической речи.
Все эти факты говорят о том, что процесс номинации - сложный многоаспектный феномен речи. При номинации отдельного предмета мы встречаемся с фактами невозможности их наименования. При наименовании слов, обозначающих вид или род определенной группы предметов, дефект номинации не наблюдается. Название качеств и состояний тоже не встречает затруднений.
В случае с наименованием отдельных предметов в сознании существует только перцептивный образ, и поскольку он относится к отдельному предмету, он не может быть обозначен словом. Этот перцептивный образ для сознания данного больного еще чужой, он, если можно воспользоваться терминологией Канта, - только явление . Слова, обозначающие вид и род, содержат в себе сущность группы предметов, которые знакомы сознанию и содержательно не пусты.
Когда речь идет о качествах, то ясно, что качество не существует без какого-либо предмета -подлежащего. Поэтому слова, выражающие качество, легко связываются с ними.
На основании изложенного мы приходим к следующему выводу. Номинация - это сложный многоаспектный процесс, при котором возможность называния слова определяется его статусом в структуре высказывания.
3. Чувственно-наглядный образ предмета
Перцептивный образ отдельного предмета содержит в себе лишь отдельные характерные черты этого предмета, без его определения как актуально существующего и входящего в сознание человека в качестве определенного элемента познавательной деятельности.
Для того, что бы стать составным элементом целостного познавательного образа, он должен приобрести какие-то новые свойства. Такие свойства перцептивный образ может приобрести в процессе его приобщения к чувственно-наглядным представлениям. Гегель подчеркивал, что "особенности чувства созерцания, желания, воли и т.д., поскольку мы их осознаем , называются вообще представлениями " ( Гегель , 1975). Чувственно-наглядные представления являются чувственносверхчувственными образованиями сознания. Наглядный образ, представления, как считал Гегель, имеет в качестве своего содержания чувственный материал, но в наглядном образе этот материал характеризуется как принадлежащий субъекту, как мой . Этот материал возникает из "знающего себя мышления". Так возникает чувственный образ-представление, являющийся синтезом перцептивного образа и теоретического уровня познания, идущего от мышления.
К чувственно-наглядным представлениям относятся прежде всего воображение, фантазия, представление, метафора и др.
Особо важную роль в приобщении перцептивного образа к целостному познавательному образу играет такое чувственно-наглядное представление, как воображение .
"Действительно, - пишет Аристотель, - воображение есть нечто отличное и от ощущения и от мышления; оно не возникает помимо ощущения, и без воображения невозможно никакое составление суждения" ( Аристотель , 1937).
В воображении, как его определяет Аристотель, сразу видна действенная чувственно -сверхчувственная природа наглядных представлений, в том числе и воображения. Они не могут возникнуть без ощущения и не могут выполнять своих функций, если в них не содержится перцептивный образ предмета, идущий от ощущения. Это основное условие, чтобы наглядное представление относилось к воспринимаемому предмету. Но без воображения невозможно и составление суждений, суждение раскрывает содержание понятия. В суждении мы имеем подлежащее, которое при помощи предиката утверждается как существующее и приобретает какое-нибудь качество. В суждении "Книга - белая" (The book is white) "is" означает, что книга существует, а ее качество – быть белой. Качество "белая" задано перцептивным образом, ощущением.
То, что воображение имеет отношение к составлению суждения, характеризует его как логический процесс, как сверхчувственное. Перцептивный образ, становясь элементом наглядного представления – воображения, приобретает такое свойство любого слова и категории как всеобщность, без которой предметный чувственный образ не может быть отнесен к соответствующей категории.
Другим широко известным чувственно-наглядным представлением является фантазия . Гегель рассматривал фантазию как начало, как исходный пункт разума, "духа". Фантазия возникла тогда, когда народы еще не выделили себя из окружающего мира, "жили поэзией". "Фантазия, – пишет Гегель, – определяет начало разума, поскольку она активно пролагает себе путь к сознанию, однако, то, что она носит в себе, она выявляет в чувственной форме. Эта деятельность, следовательно, имеет духовное содержание, воплощаемое его в чувственной форме, потому что лишь, таким образом, она может осознать его" ( Гегель , 1968).
Представление, фантазию, воображение, писал Гегель, "можно вообще рассматривать как метафоры мыслей и понятий" ( Гегель , 1975).
То, что представления являются метафорами мыслей и понятий, говорит и то, что в представлениях абстрактно-понятийное содержание мышления сводится к чувственно-образному, и мысли и понятия можно отнести к конкретным предметам, данным в ощущениях. Как подчеркивал еще Кант, "в самом деле, без наглядных представлений всякое наше знание лишено объектов и является в таком случае совершенно пустым" ( Кант , 1915).
На этом уровне познание имеет еще символический характер, так как смысл познания еще не оформлен в виде слова-понятия, а имеет вид представлений, которые раскрывают содержание смысла не однозначно. Такая символическая форма мышления характерна и для мифологического сознания.
То, что представления являются "метафорами мыслей и понятий", говорит о том, что в них абстрактно-понятийное содержание сводится к чувственно-образному для того, чтобы можно было мысли и понятия соотнести с конкретными предметами и явлениями, с данными, полученными в ощущениях.
Когда перцептивный образ отдельного предмета включается в состав чувственно-наглядных представлений, как уже отметили, он приобретает такие качества, как "субъективность" и "общность" с предметами данного вида и рода. "Наша природа, – пишет Кант, – такова, что наглядные представления могут быть только чувственными, то есть содержать в себе лишь способ действия на нас предметов. В свою очередь способность мыслить предмет чувственного наглядного представления есть рассудок" ( Кант , 1915).
4. Познавательный образ
Афазиологам хорошо известно, что слово-наименование появляется одновременно с познавательным образом этого же предмета.
А что такое познавательный образ? Познавательный образ – это результат синтеза перцептивного образа, приобретающего в составе чувственно-образных представлений черты "субъективности" и "общности" с предметами определенного вида и рода и с соответствующими категорией и словом.
Вопрос о том, как слово становится элементом познавательного образа, исследован недостаточно. Фрейд считал, что слово становится элементом познавательного образа потому, что чувственный образ связывается со словесными воспоминаниями, когда-то бывшими сознательными.
Сознательные восприятия содержат в себе представления, оформленные как словесные. Бессознательные образы состоят только из предметных представлений.
Процесс узнавания бессознательного происходит тогда, когда предметное представление приобретает форму словесного или символически проявляется в сновидениях, болезненных симптомах, оговорках, описках, сублимации, трансфера и т.д. Все эти процессы были подробно описаны Фрейдом в "Психопатологии обыденной жизни", "Толковании сновидений", "Лекциях по психоанализу" и многих других его трудах. Когда речь идет о месте слова в познавательном образе, не следует забывать и Павловскую "временную связь".
Познавательный образ в психической деятельности выступает в виде восприятия. Все, кто занимался проблемами восприятия, подчеркивают, что в нем как в познавательном образе ярко проявляется единство чувственного и рационального. "Восприятие человека, – пишет С.Л. Рубинштейн (1946), – представляет собой единство чувственного и смыслового, ощущения и мышления ".
Благодаря сохраняющемуся в познавательном образе перцептивному образу слова имеют смысл, общее представление, название соотносится с конкретным чувственно воспринимаемым, чем и определяется достоверность восприятия, гносеологическое единство образа и предмета. "Всякое восприятие, как акт познания, – пишет С.Л. Рубинштейн (1946), – заключает в себе в более или менее скрытом виде соотношение , сопоставление возникающего в восприятии образа с предметом".
5. Заключение
При помощи анализа одного из основных симптомов афазии – дефекта называния имен отдельных единичных предметов – прослежено развитие нарушения номинации от ее возникновения до выздоровления больного. Этот процесс связан с дислексией взаимоотношений между понятиями: перцептивный образ (ощущение), перцептивный образ в составе чувственно-наглядных представлений и познавательный образ. Показано, что изучение некоторых симптомов различных форм афазии и подобных феноменов в психопатологии обыденной жизни могут быть использованы в качестве моделей для изучения некоторых общих закономерностей процесса познания и речевой деятельности.