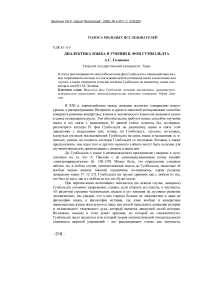Диалектика языка в учении В. фон Гумбольдта
Автор: Голикова Александра Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются мысли Вильгельма фон Гумбольдта о взаимодействии языков, затрагиваются взгляды его последователей на отношения языка и мышления (или «духа»), а также отмечается сходство взглядов Гумбольдта на диалектику языка и некоторых идей Ю.М. Лотмана.
Вильгельм фон гумбольдт, история лингвистики, сравнительно-историческое языкознание, лингвокультурология, языковые контакты, юрий лотман
Короткий адрес: https://sciup.org/146281745
IDR: 146281745 | УДК: 81-119 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.4.218
Текст научной статьи Диалектика языка в учении В. фон Гумбольдта
В XXI в. взаимодействие между языками достигает совершенно нового уровня, а распространение Интернета и средств массовой коммуникации способно повернуть развитие конкретных языков и человеческого языка как явления в целом в самое неожиданное русло. Эти обстоятельства требуют новых способов изучения языка и его связи с мышлением. В данной статье хотелось бы, во-первых, рассмотреть взгляды В. фон Гумбольдта на диалектику языка и связь этой диалектики с мышлением или, точнее, по Гумбольдту, «духом»; во-вторых, коснуться взглядов последователей Гумбольдта на связь языка и мышления; и, в-третьих, указать на схожесть взглядов Гумбольдта со взглядами Лотмана, а также предположить, чем идеи того и другого великого учёного могут быть полезны для изучения процессов, происходящих с языком в наши дни.
До Гумбольдта о языке в немецкоязычном пространстве говорили в духе, похожем на то, что А. Павлова с её единомышленниками позже назовёт «лингвонарциссизмом» [6: 138–159]. Может быть, это определение слишком жёстко, но, в любом случае, лингвистическая мысль до Гумбольдта, насколько её вообще можно назвать таковой, ограничена, по-видимому, одами родному немецкому языку [7: 12–27]. Гумбольдта же трудно сравнить как с любым из тех, кто был до него, так и с любым из тех, кто будет после.
При перечислении величайших лингвистов (во всяком случае, западных) Гумбольдта упомянут непременно; однако, если открыть его тексты, в частности, «О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества», мы увидим, что в них гораздо больше не лингвистики и даже не философии языка, а философии истории, где язык вообще и конкретные национальные языки используются лишь как способ проследить движение истории и человеческого творческого духа, который является движущей силой истории. Возможно, именно в этом лежит причина, по которой на «непонятность» Гумбольдта часто жалуются и по которой теория лингвистической относительности становится жертвой упрощений – его рассматривают только как лингвиста, вырывая тем самым из контекста немецкой классической философии, с которым он тесно связан.
«О различии…» – вышеупомянутое введение к незавершённому труду Гумбольдта об индонезийском языке кави – по праву считается его magnum opus, хотя об индонезийцах и языке кави там говорится только в начале и не очень много. Но никакого противоречия здесь нет – вслед за самой Индонезией, ставшей местом, где на ряд «коренных» культур наложилось влияние нескольких великих цивилизаций (индийской, в гораздо меньшей степени мусульманской и, возможно, китайской), её судьбу повторил её язык, подвергшийся влиянию санскрита и прочих языков. Об этом говорит и сам Гумбольдт: «…некоторые малайские народы настолько полно восприняли индийскую культуру, что едва ли где-нибудь ещё найдётся пример нации, которая, не теряя собственной самостоятельности, была бы в такой степени проникнута духовным строем другой нации… Ява несомненно получила от Индии более высокую цивилизацию и культуру, причём то и другое в значительной степени, однако туземный язык не изменил от этого свою менее совершенную форму, мало отвечающую потребностям мысли; наоборот, он лишил несравненно более благородный санскрит его формы, навязав ему свою» [3: 41–42, 56]. Очевидно, что в планируемом труде великий философ собирался гораздо более тщательно разобрать язык кави с точки зрения собственной философии истории – внимательнее рассмотреть, как язык кави (или, если угодно, дух соответствующего народа) «обращался» с санскритским и прочими влияниями, преобразуя их под себя.
Впрочем, при разборе его философии истории мы вряд ли обнаружим нечто новое – она, прямо скажем, стереотипна и полностью совпадает со взглядами образованного европейца, а конкретнее, немца гумбольдтовского времени: выше всех языков он ставит древнегреческий и латынь, после них – санскрит, после него – немецкий и прочие новоевропейские языки, после них – всё остальное. Некоторые могут заподозрить его в подгонке результатов под ответ – впрочем, на это можно возразить, что всё наоборот: Гумбольдт искренне пытался найти объяснение, почему цивилизации, которые в его парадигме принято считать величайшими из всех, такими являются.
Помимо родства с классической немецкой философией, нельзя не отметить близость Гумбольдта к оккультным формам протонауки (некоторые из которых, как алхимия, вели к настоящим научным открытиям), в частности, к нумерологии. Некоторые отрывки из «О различии…» напоминают подобие нумерологического трактата, где на месте чисел - грамматические формы и закономерности. Попробуем сравнить эти цитаты:
«Недаром во всех языках, сохранивших более явственные следы раннего состояния, личное местоимение играет более важную роль» [цит. раб.: 154];
«Санскрит, греческий и латынь имеют близкородственную и во многих отношениях сходную организацию словообразования и синтаксиса. Однако всякий почувствует различие в их индивидуальном характере, который вовсе не сводится просто к характеру нации, насколько этот последний проявляется в языке, но коренится в глубине самих языков и определяет строение каждого» [цит. раб.: 163], – с выдержками из замечаний Ньютона на книги Апокалипсиса и пророка Даниила [ переведено нами в современную орфографию – А. Г .]:
«Жена же достигла, наконец, места своего светского и духовного владычества, восседая на звере… Её питали «купцы земные» три с половиною года или 42 месяца или 1260 дней; пророческие же дни равны годам. Во время всего этого времени зверь действовал, и «она сидела на нём», т. е. господствовала над ним и над 10 королями… Из всего этого видно, что она – 11-й рог Даниилова 4-го зверя» [8: 229].
И, наконец, с тем, что ливанский исследователь Надер эль-Бизри пишет о восточных коллегах обоих учёных – арабо-персидских последователях пифагорейцев: «In reflecting on the first four series of numbers (starting with the unit 1, then 2, 3 and 4), which all constitute the tetraktys, the Ikhwan al-Safa also argued in ontological-cosmological terms that the relationship of the Creator to all existents is like that of the unit 1 to all numbers while the active intellect… is like the number 2, the cosmic universal soul… like the number 3, and prime matter… like the number 4. Consequently, all creatures… were fashioned from the first four numbers that let the tetraktys appear, and with it the ten-form numbers that underpin the existence of existents through a process of generation by way of emanation». [13: 25-26].
(«Размышляя о первых четырёх числах в натуральном ряду (начиная с единицы, продолжая двойкой, тройкой и четвёркой), из которых состоит тетраксис, «Ихван ас-Сафа» [«Братья чистоты» - собственно неопифагорейское общество в Басре X в. – А. Г.] также утверждали, что с точки зрения онтологии и космологии Творец ко всему сущему имеет такое же отношение, что 1 – ко всем числам. Тем временем активный ум… подобен числу 2, космическая, вселенская душа… числу 3, а первичная материя… числу 4. Следовательно, все существа… были сотворены из первых четырёх чисел, составляющих тетраксис, а также цифры от 0 до 9, являющиеся первоначалом сущего и порождающие его путём эманации» [здесь и далее перевод наш – А. Г.] )
Трудно не заметить здесь некоего текстологического родства: все цитируемые авторы находят некие числовые или грамматические закономерности и пытаются связать их, ни много, ни мало, с судьбой Вселенной (в случае Ньютона, вычислить дату конца света) и человечества. Однако если говорить именно о Гумбольдте, ему в ходе подобных занятий удалось составить представление о языке как о системе, подчиняющейся определённым, объективным законам, то есть, сделать очень важное открытие. Можно ли то же самое сказать о его последователях?
Этнолингвистические идеи Гумбольдта пришли в англоязычный мир через Ф. Боаса – учителя Э. Сепира [7: 100], дав начало т. н. гипотезе Сепира и Уорфа, ученика Сепира. Среди современных исследователей, по-видимому, принято рассматривать Сепира (на которого, помимо Гумбольдта и Боаса, также влияли философия Виттгенштейна и теория относительности в современной Сепиру физике [4: URL]) как более добросовестного исследователя, который был искренне заинтересован в поисках правды и действовал научными методами, в отличие от Уорфа, которого обвиняют в подтасовке, плохом знании исследуемого материала и недостаточной работе с носителями и информантами (если он с ними работал вообще) [12: 59–63]. Особенно едко о Уорфе отзывается Г. Дойчер, завершая длинный разбор его недостатков как учёного простой цитатой из труда Э. Малотки «Время хопи», опровергающей Уорфа:
«Первая страница книги в основном пуста, только в середине напечатаны два предложения, одно под другим:
После долгого и тщательного изучения и анализа можно рассматривать язык хопи как не содержащий слов, грамматических форм, конструкций или выражений, которые прямо относились бы к тому, что мы называем «время». (Бенджамин Ли Уорф, «Модель вселенной американских индейцев», 1936)
pu’ antsa pay qavongvaqw pay su’its talavay kuyvansat, pàasatham pu’ pam piw maanat taatayna
«И тогда, на следующий день, очень рано утром, в час, когда люди поклоняются солнцу, примерно в это время, он снова разбудил девушку». (Эккехарт Малотки, «Полевые заметки о хопи», 1980)
Далее в книге Малотки на 677 страницах мелким шрифтом приводится множество выражений для времени в языке хопи, а также времен и видов глагола в его ‘глаголах без времени’. Невероятно, как может измениться язык за сорок лет» [4: URL].
Особенно примечательно то, как высказывается о Уорфе С. Пинкер: «No one is really sure how Whorf came up with his outlandish claims, but his limited, badly analyzed sample of Hopi speech and his long-time leanings towards mysticism must have contributed» [12: 63]. («Никто не знает точно, откуда Уорф взял свои сумасбродные идеи, но, должно быть, тут сыграли роль ограниченность и плохой анализ материала речи хопи, которым он располагал, а также его давняя склонность к мистицизму».) Увлечение Уорфа «мистицизмом» - снова это слово появляется в данном тексте – действительно имело место быть: он специально изучал (не будучи профессиональным лингвистом) иврит, чтобы читать Ветхий Завет, и уделял большое внимание трудам Антуана Фабра д’Оливе, написавшего труд о скрытых значениях ивритских букв и расшифровке Книги Бытия с их помощью [11: 57–58].
Что касается немецкоязычного пространства, в нём чуть позже зародилось неогумбольдианство, начало которому положил Й. Л. Вайсгербер. В «Родном языке и формировании духа» Вайсгербера проявляются две характерные черты, говорящие о фактическом разрыве с Гумбольдтом, невзирая на постоянные отсылки к его учению о «духе»: сосредоточенность на слове («концепте», как это потом назовут в лингвокультурологии), в отличие от Гумбольдта, огромное значение придававшего грамматике; и ограничение объекта исследования почти исключительно немецким языком, что вдвойне удивительно в случае Вайсгербера, который по образованию был кельтологом. [2: URL]. Прочие неогумбольдтианцы, во всяком случае, некоторые из них, сохранят верность первому признаку, дальше погружаясь в исследования концептов; что касается второго пункта, некоторые из них всё же попытаются «глобализовать» свои исследования, как, например, А. Вежбицкая. Та, опираясь, в числе прочих, на Лейбница, верившего в универсальный «алфавит человеческой мысли», заявляет о попытках вывести «естественный семантический метаязык» – набор таких концептов, который был бы общим для всех языков и культур, невзирая на их различия. Надо сказать, что подобное заявление выглядит весьма странно в её исполнении, так как, например, в книге Вежбицкой «Understanding Cultures through their Key Words» проекту метаязыка посвящено несколько страниц во введении [14: 22–31], тогда как остальная книга, объём которой в целом превышает 300 страниц, разбирает разные «ключевые слова» в разных языках, доказывая, почему точного перевода для них в других языках быть не может, из чего не делается какого-либо ясного вывода насчёт естественного семантического метаязыка.
В русскоязычном постсоветском пространстве неогумбольдтианство, не без влияния той же Вежбицкой, выросло в дисциплину под названием лингвокультурология, которая занимается, главным образом, исследованием разных национальных характеров через их языки, а точнее, концепты этих языков. Лингвокультурология достаточно быстро завоевала столько же многочисленных сторонников, сколько и противников; в 2010-2011 гг. на страницах российского журнала с говорящим названием «Политическая лингвистика» разразилась дискуссия о положительных и негативных сторонах лингвокультурологии, по итогам которой немецкая лингвистка русского происхождения и эмигрантка из России А. Павлова выпустила под своей редакцией сборник «От лингвистики к мифу». Нельзя не отметить справедливость ряда высказанных там претензий, как то:
«Доходит до конфузов: «Русскому человеку непонятна немецкая пословица Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige» ( Буренкова С. В . Немецкие жизненные нормы сквозь призму лексики языка. М. – Омск, 2008. С. 24). Имеется в виду пословица Точность – вежливость королей ; перевод с французского; в оригинале L’exatitude est la politesse des rois . Пословица распространена в русском дискурсе значительно шире, чем в немецком» [6: 13].
«Например, в одной из диссертаций описывается методика обучения финских студентов содержанию концепта зима : установлено, что финские студенты «не владеют в достаточной степени семантическим объёмом культуромаркированных лексических единиц, репрезентирующих концепт “зима”»… Примечательно, что эта работа защищена не в Краснодаре или Ростове-на-Дону, а в Петербурге, который, как известно, находится в близком соседстве с Финляндией, на одной широте с г. Хельсинки и пребывает в одинаковых с ним климатических условиях. Причем финская столица расположена на крайнем юге страны, а бόльшая часть территории последней – за полярным кругом. Где уж финнам взять представления о зиме?!» [цит. раб.: 200]
«В языке, таким образом, нет ничего случайного или просто привычного (узуального): в нём всё значимо и всё содержательно. Этот путь рассуждений приводит к неслыханному буквализму и примитивизации семантических толкований.
Неогумбольдтианство не способно объяснить даже такие простые явления, как речевые ошибки: если человек мыслит только словами, то ошибки в употреблении лексики исключены. Что произносится, то и имеется в виду» [цит. раб.: 6].
Кроме того, хотелось бы добавить от себя следующее: представляется, что человек говорит (а, возможно, даже и мыслит) всё-таки не словами, а высказываниями. А в рамках конкретного высказывания слово, которое обычно означает одно, может означать нечто совершенно другое – даже иметь значение, которое не повторяется больше ни в одном другом высказывании, сделанным кем бы то ни было.
Тем не менее, помимо тенденциозного тона А. Павловой, мало подходящего для научного исследования, удивляет категоричное стремление отмести саму идею, будто язык способен влиять на мышление, в то время, как современная философия после лингвистического поворота занимается в многом тем, что доказывает: да, действительно способен. По нашему мнению, этот вопрос заслуживает более объективного и глубокого рассмотрения.
В общем и целом,вышеприведённая информация производит следующее впечатление: случай Гумбольдта доказывает нам, что можно сделать большой шаг вперёд в науке, вне зависимости от того, из каких предпосылок исходит исследователь: оккультных/мистических/религиозных или материалистических. Таким образом, причина предположительно существующего противоречия между религией и наукой и дебатов насчёт того, совместимо ли то и другое, лежит не в объективно существующем препятствии, которым религия якобы является для науки или наоборот, а скорее в том, что каждая сторона сознательно подменяет понятия и указывает на связь там, где её нет: научно-исследовательские способности конкретного учёного - оригинальное, но при этом рациональное и аналитическое мышление, и т. д. - от которых зависит исход и результат исследования, никак или очень мало зависят от мировоззрения данного учёного и предпосылок, из которых он исходит. Заявления об обратном - всего лишь аутотренинг лиц, уверенных, будто бы человек автоматически обретает талант, определив себя как сторонника того или иного мировоззрения. В наше время, когда дискуссии о роли религиозного/мистического/духовного познания в науке (которое, предположительно, находится в конфликте с научным, либо его превосходя, либо, напротив, будучи менее совершенным по сравнению с ним, в зависимости от взглядов каждой из сторон; примеры - [9: 16-29, 10: 265-278]) по-прежнему не затихают, этот вывод может быть весьма актуальным.
Тем не менее, в случае, подобном Гумбольдту, когда выдающийся исследователь имеет склонность к метафизике, это приводит к многочисленным неясностям в его текстах, которые способствуют разным толкованиям, что его последователи обращают себе на пользу, будучи менее талантливыми, а зачастую -и более «реакционными», как с точки зрения политических взглядов, так и с точки зрения свободы, смелости и новизны мышления.
Великие открытия велики, помимо прочего, потому, что, даже если они были совершены в религиозно-мистической парадигме, века спустя, с высоты того, что мы узнали за это время, им можно подобрать объяснение, не нуждающееся в мистике. Так, Гумбольдт в «О различии…» описывал индонезийский язык кави, который (так как индонезийская культура находилась под сильным влиянием индуизма) испытал сильное влияние санскрита, но при этом «навязал ему свою форму» (см. выше). Пытаясь приблизить свой язык к чужому языку, бывшему для них священным, индонезийцы парадоксально отдалились от санскрита, одновременно изменив и свой язык, и санскритские заимствования в нём, отделив их от их изначальной формы.
Другой пример похожего явления мы можем наблюдать, например, в русскоязычной статье «Аль-Фараби о языке и культуре речи», где названия трудов арабоязычного философа аль-Фараби транскрибируются не по обычным правилам арабо-русской транскрипции, а по правилам, более характерным для языков Средней Азии, а изначально пришедшим, по-видимому, из фарси/дари/таджикского: там, где в оригинале стоял ударный гласный, близкий к русскому «а» и обозначаемый буквой алиф, в транскрипции авторов статьи стоит «о», более характерное для персидского, но никак не для арабского («Китоб ал-алфоз ва ал-хуруфт»™ «Китоб фи сиилат ал-китоби»... «Китоб фи ал-лугат» [1: 111]). Здесь в действие входят уже не два, а три (возможно, даже более) языка: авторы статьи, возможно, сами того не замечая, объясняют арабский язык на русском, но по правилам среднеазиатских языков, таким образом парадоксально искажая священный язык в попытке к нему приблизиться.
В. фон Гумбольдт подобные явления объяснял деятельностью духа, но им же гораздо позже было дано вполне материалистическое объяснение Ю. М. Лотманом в его статье «Динамическая модель семиотической системы»: «Когда усложнение частных (индивидуальных и групповых) языков переходит некоторую границу структурного равновесия, возникает потребность во введении вторичной, общей для всех, кодирующей системы. Такой процесс вторичной унификации социального семиозиса неизбежно влечет за собой упрощение и примитивизацию системы, но одновременно актуализирует ее единство, создавая основу для нового периода усложнений… Таким образом, можно выделить два типа семиотических систем, ориентированных на передачу примарной и вторичной информации. Первые могут функционировать в статическом состоянии, для вторых наличие динамики, т. е. истории, является необходимым условием «работы». Противопоставляя два типа семиотических систем, следует избегать абсолютизации данной антитезы. Речь скорее должна идти о двух идеальных полюсах, находящихся в сложных отношениях взаимодействия. В структурном напряжении между этими полюсами развивается единое и сложное семиотическое целое – культура» [5: 100–101]. Эти слова описывают семиотические системы в целом, но, по нашему мнению, они также прекрасно применимы к естественным человеческим языкам и не противоречат языкознанию Гумбольдта, а, напротив, дополняют его. Представляется, что парадигма, предоставленная нам Гумбольдтом и Лотманом, не утрачивает своей актуальности и релевантности: её можно применять и при рассмотрении современных языковых процессов, что открывает большие исследовательские перспективы.
Tver State University, Tver
This article presents a look at Wilhelm von Humboldt’s ideas of language contacts. It also briefly touches upon the thoughts his posterity had on the relationship between language and mind (or Geist , “spirit”) and points out the similarities between Humboldt’s dialectics of language and some ideas of Yuri Lotman.
Список литературы Диалектика языка в учении В. фон Гумбольдта
- Бегматов Э.А., Исламов У.Х. Аль-Фараби о языке и культуре речи // Вестник Челябинского государственного университета. Политические науки. Востоковедение. 2012. № 12 (266). С. 110-113.
- Вайсгербер, Йохан Лео. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. О.А. Радченко. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2004. 232 с. (История лингвофилософской мысли.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/13745701/%D0%99.%D0%9B.%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0 (Дата обращения: 18.05.2020.)
- Гумбольдт, Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт; перевод с немецкого языка под редакцией и с предисловием доктора филологических наук проф. Г.В. Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыги и В.А. Звегинцева. 2-е издание. М.: Издательская группа "Прогресс", 2000. 400 с.
- Дойчер, Гай. Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе / Пер. с англ. Н. Жукова. М.: AST Publishers, 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.litres.ru/gay-doycher/skvoz-zerkalo-yazyka-pochemu-na-drugih-yazykah-mir-vyglyadit-inache/chitat-onlayn/ (Дата обращения: 18.05.2020.)
- Лотман Ю.М. Избранные статьи в трёх томах. Таллин: "Александра", 1992. (Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. 247 с.).
- От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках "этнической ментальности": Сборник статей / сост.: А.В. Павлова. СПб.: Антология, 2013. 352 с.
- Радченко О.А. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. 312 c. (История лингвофилософской мысли.)
- Сэр Исаак Ньютон. Замечания на Книгу пророка Даниила и Апокалипсис св. Иоанна в двух частях / Перевод с английского. Петроград, Издание Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1915. 258 с.
- Фролова И.А. Исаак Ньютон: от научных исследований к доказательствам бытия Бога // Вестник ТвГУ. Серия: "Философия". 2019. № 2. С. 16-29.
- Ханский А.О. Сталин, марксизм и вопросы языкознания // Вестник ТвГУ. Серия: "Филология". 2011. № 4. Выпуск 2. С. 265-278.
- Duranti, Alessandro. Linguistic Anthropology. Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 420 p.
- Pinker, Steven. The Language Instinct. New York, Harper Perennial, 1995. 483 p.
- The Occult Sciences in Pre-modern Islamic Cultures / Edited by Nader El-Bizri and Eva Orthmann. Beirut, Ergon Verlag Würzburg in Kommission, 2018. 264 p.
- Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words. New York, Oxford, Oxford University Press, 1997. 317 p.