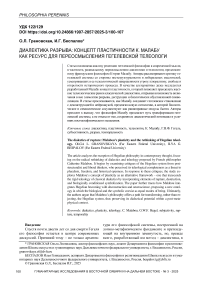Диалектика разрыва: концепт пластичности К. Малабу как ресурс для переосмысления гегелевской телеологии
Автор: Грановская О.Л., Беспалов И.Г.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу рецепции гегелевской философии в современной мысли, в частности, радикальному переосмыслению диалектики и телеологии, предложенному французским философом Кэтрин Малабу. Авторы рассматривают критику гегелевской системы со стороны постструктуралистов и либеральных мыслителей, усматривавших в ее телеологической завершенности угрозу плюрализму, свободе и открытости исторического процесса. В качестве альтернативы далее исследуется разработанный Малабу концепт пластичности, который позволяет преодолеть жесткие телеологические рамки классической диалектики, открывая возможность включения в нее элементов разрыва, деструкции и биологически обусловленной символизации. В статье прослеживается, как Малабу соединяет гегелевское становление с деконструкцией и нейронаукой, предлагая новую онтологию, в которой биологическое и символическое сосуществуют как равноправные модусы бытия. Авторы приходят к выводу, что философия Малабу предлагает путь трансформации гегелевской системы, а не отказа от нее, сохраняя ее диалектический потенциал в условиях постметафизического мышления.
Диалектика, пластичность, телеология, К. Малабу, Г.В.Ф. Гегель, субъективность, разрыв, темпоральность
Короткий адрес: https://sciup.org/170210994
IDR: 170210994 | УДК: 122/129 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-3/100-107
Текст научной статьи Диалектика разрыва: концепт пластичности К. Малабу как ресурс для переосмысления гегелевской телеологии
Спустя почти двести лет со дня смерти Гегеля его философия остается в центре современных дискуссий. Причиной тому – не только архитек- тура его философской системы, построенной на логико-метафизическом фундаменте и претендующей на внутреннюю замкнутость, но, прежде всего, разработанный им метод – диалектика, в рамках которой бытие мыслится как процесс са-мооформления, проходящий через череду противоречий, их снятия и перехода к новой форме, включая как моменты непрерывности, так и возможность прерываний, трансформаций и разрывов. Именно в этой последовательности - тезис, антитезис, синтез - Гегель обнаруживает структуру движения духа и истории.
Однако современная философия, особенно французская постструктуралистская традиция, поставила под вопрос не только телеологическую завершенность гегелевской системы, но и саму возможность гармонизации противоречий. Жак Деррида, в рамках своей деконструкции бинарных оппозиций западной метафизики, указывал на структурную невозможность завершенного синтеза ряда структур, пребывающих в процессе «разрыва и смещения» [2, с. 51]. В своей работе «О грамматологии» он противопоставил концепции диалектического снятия идею следа, который не может быть окончательно вписан ни в одну целостную синтетическую структуру.
Жиль Делез, развивая концепт различия, критиковал диалектику как инструмент редукции многообразия к синтетическому единству [5, с. 118]. Джорджо Агамбен, в свою очередь, поднимал вопрос об «остатке» [1] - том, что принципиально не поддается включению в символический порядок. Их критика демонстрирует, что попытка свести историческое и онтологическое становление к замкнутой структуре противоречит опыту множественности, непредсказуемости и разрыва.
Не менее значимым является вызов со стороны либеральной философии, обеспокоенной политикоэтическими последствиями идеи исторической необходимости. Либеральная традиция, основанная на защите индивидуальной свободы, автономии и плюрализма ценностей, воспринимала гегелевскую мысль как потенциально опасную - особенно в ее телеологической версии, где развитие подчинено заранее заданной логике Абсолюта. Ключевым ее критиком в этом контексте стал Исайя Берлин, предложивший в работе «Две концепции свободы» (1958) различение между негативной и позитивной свободой. Последняя в гегелевском прочтении, согласно Берлину [9, p. 203], заключалась в подчинении субъекта универсальному разуму, воплощенному в духе народа, государства или истории. Такая модель свободы, писал он, приводит к тому, что несогласие интерпретируется как неразумность, а индивидуальный выбор уступает место «истинной» воле, определяемой извне. В этом либералы усматривали не просто теоретическое противоречие, но прямую угрозу моральной автономии личности.
Карл Поппер предлагал более жесткую формулировку: он обвинил Гегеля в подмене философского мышления идеологией историцизма. Согласно Поп- перу, если ход истории является логически необходимым, то любое сопротивление «объективному процессу» оказывается иррациональным [6, с. 269]. Такая логика, утверждал он, разрушает саму возможность критики власти и оправдывает насилие как неизбежный этап исторического становления. В этом смысле гегелевская телеология воспринималась Поппером не как метафизическая гипотеза, а как идеологический инструмент.
Последователь Берлина Джон Грей развивает эту аргументацию, утверждая, что стремление к синтезу и завершенности, характерное для гегелевской философии, неизбежно подавляет множественность и различие [4, с. 16]. С точки зрения Грея, идея универсального целого вступает в конфликт с идеалом ценностного плюрализма, который лежит в основе либерального мировоззрения. Попытка «примирения» всех противоречий приводит, по его мнению, к иерархизации ценностей и исключению инаковости [4, с. 86]. Грей позиционирует «агональный» либерализм Берлина в качестве антитезы гегельянству, поскольку он стоит на защите хрупкого многообразия жизни «против тотализирующих метанарративов» [10, с. 132].
Возражения Берлина и Грея направлены не столько против диалектики как таковой, сколько против тех политических и аксиологических следствий, к которым, по их мнению, может привести гегелевская идея исторической необходимости и универсального духа. Берлин усматривал в телеологическом мышлении источник оправдания насилия и пренебрежения свободой личности. Грей, развивая эту линию, критиковал универсализм гегелевского мышления за подавление ценностного плюрализма и навязывание единой логики исторического развития. Их критика может быть резюмирована по трем основным направлениям.
В эссе «Историческая неизбежность» Берлин подчеркивает, что вера в историческую неизбежность, «в то, что все происходящее неизбежно, что попытки сопротивляться этому тщетны… ведет к моральной безответственности, к оправданию пассивности перед лицом зла» [3, с. 136], другими словами, разрушает пространство моральной ответственности. В одном из первых своих исследований, посвященных марксизму, он делает вывод, что Маркс превратил гегелевскую диалектику в орудие для обоснования диктатуры, где страдания настоящего объявляются необходимой платой за счастье будущего [8].
Основная идея Берлина и его последователей - ценностный плюрализм, утверждение множественности человеческих ценностей. Он критикует концепцию «позитивной свободы», сторонником которой был, по его мнению, Гегель «с его стремлением к «истинному» Я: «…Эта концепция чаще других превращалась в орудие тирании, когда правители навязывали свою волю во имя “выс- ших интересов” народа» [9, с. 230]. Джон Грей добавляет к этому: «Универсалистские проекты, будь то гегельянство или марксизм, игнорируют несоизмеримость ценностей… Они пытаются подчинить жизнь абстрактным схемам, отрицая реальность конфликта между благами» [4, с. 145].
Будучи сторонником индивидуальной свободы, Берлин также критикует Гегеля за концепцию достижения свободы через подчинение всеобщей воле: «Это открывает путь к тоталитаризму, где индивид растворяется в коллективе» [3, с. 180]. В своей работе «Либерализмы» Грей развивает эту идею: «Марксизм, как наследник Гегеля, отрицает множественность истинных ценностей… Это ведет к подавлению инакомыслия во имя “исторической необходимости”» [10, p. 67].
Итак, все эти критики сходятся в одном: в их интерпретации Гегель предлагает философию, в которой свобода возможна только как реализация объективной необходимости, а значит она теряет свое личностное, экзистенциальное измерение. Свобода в гегелевской системе становится формой внутреннего согласия с необходимым, а не правом на отказ и сопротивление. На этом фоне интересную попытку радикального переосмысления гегелевского наследия, а не отказа от него, представляет собой философия Кэтрин Малабу. Развивая свою мысль на пересечении традиций деконструктивистской философии и современных нейронаук, Малабу выдвигает концепт пластичности как категорию, способную удерживать напряжение между формообразованием и разрушением, между синтезом и разрывом. В ее интерпретации гегелевская диалектика не теряет своей силы, но перестает быть моделью фи-нализма: становление предстает как пластичный процесс, допускающий травму, непредсказуемость и возможность подлинной свободы. Пластичность у Малабу – не только философская категория, но и онтологический принцип, позволяющий вписать в философскую систему как контингентность, так и историческую трансформацию, не разрушая при этом ее логического ядра.
Цель данной статьи – выявить, каким образом понятие пластичности позволяет Малабу осуществить радикальную трансформацию гегелевской телеологии. Мы рассмотрим ее философию в контексте как критики тотальности, озвученной Ж. Деррида, Ж. Делёзом, И. Берли-ным и Дж. Греем, так и позитивных попыток ее переосмысления, характерных для Дж. Агам-бена, А. Бадью, Ж.-Л. Нанси. В центре нашего внимания – вопрос о том, может ли диалектика быть контингентной, открытой к непредсказуемому, и какую роль в этом играет телесный, биологический аспект бытия.
В статье используется сравнительно-исторический и герменевтический методы, а также метод концептуального анализа. Концептуальный анализ применяется для выявления семантического и философского значения понятия «пластичность» и его функций в корпусе работ К. Малабу. Сравнительно-исторический подход используется для анализа эволюции представлений о телеологии – от ее гегелевского переосмысления как формы рациональности до критики у Берлина, Делеза, Деррида и Малабу. Герменевтический подход служит не только для интерпретации ключевых текстов Малабу [11; 13; 14], но и для выявления параллелей с постметафизической философией и нейронаукой, что позволяет сформировать целостную картину философской трансформации диалектики в ее современном прочтении.
Пластичность: между Гегелем и Деррида
Кэтрин Малабу – французский философ, ученица Жака Деррида, чье исследование гегелевской традиции отличается концептуальной новизной и методологической глубиной. Центральным понятием ее работ становится пластичность, которую она наследует у Гегеля, но радикально переосмысливает.
Малабу начинает разрабатывать этот концепт в своей диссертации, опираясь на его употребление в различных областях: от материаловедения и нейронаук до повседневной речи. Она выделяет три основные модальности пластичности: активная пластичность – способность придавать форму; пассивная пластичность – способность воспринимать форму, поддаваться оформлению (например, как глина или воск); разрушительная пластичность – способность к уничтожению формы, к радикальному и необратимому разрыву, подобному действию взрывчатого вещества (plastoïde) [11, p. 8–11].
Если в классической философии пластичность понималась преимущественно как способность формировать и сохранять, то Малабу добавляет к этому еще одно, наиболее радикальное измерение – способность разрушать. Именно это третье значение позволяет ей переосмыслить гегелевскую диалектику не как процесс гармонизирующего синтеза, а как открытую структуру, допускающую травму, прерывание и исчезновение формы без последующего восстановления. В этом контексте гегелевское понятие Aufhebung (снятие) утрачивает свою однозначную направленность к целостности: оно становится не гарантией примирения, а точкой возможного разрыва. «Гегель, как мне кажется, еще не знал, насколько его система пластична. Он оставил за собой возможность быть прочитанным как философ катастрофы» [11, p. 15], – пишет Малабу.
Пластичность, таким образом, перестает быть просто метафорой гибкости и превращается в аналитический инструмент, выявляющий внутреннюю нестабильность самой диалектики. «Пластичность – это не просто способность быть фор- мой, но и сила, способная разрушать саму форму» [11, p. 12], – подчеркивает она. Диалектический процесс, в ее интерпретации, уже не ведет неизбежно к синтезу, а допускает необратимые сдвиги, утраты и события, которые невозможно вписать в традиционную гегелевскую логику завершения.
Чтобы продемонстрировать, как пластичность действует в гегелевской системе, Малабу обращается к различным примерам. Во-первых, пластичность в искусстве, особенно в скульптуре. Античная статуя – форма, в которой идеал запечатлевается в статичном образе, но в то же время указывает на внутреннюю динамику. Здесь форма и материя взаимодействуют: одна оформляет, другая принимает. Во-вторых, пластичность субъективности – характеристика тех, кто способен к саморазвитию, к формированию универсального через индивидуальное. Гегель говорит о философах, поэтах, политических деятелях как о «пластичных» индивидах, сумевших реализовать свою сущность как свободную и разумную. И, наконец, в качестве примера она приводит философскую пластичность – метод диалектики, осмысленный не как движение к предзаданному финалу, а как открытый процесс, допускающий разрывы, деформации и реорганизацию смысла.
Малабу интерпретирует Aufhebung не как автоматический синтез, а как возможность переоформления, где снятие сохраняет разрыв как источник нового смысла, а не устраняет его. Ссылаясь на «Лекции по истории философии», она подчеркивает гегелевский мотив самодвижения Духа: «Дух никогда не покоится, он всецело вовлечен в движение вперед...» [11, p. 187]. Это движение – не механическая прогрессия, а постоянное само-преодоление, в котором Дух формирует себя через внутренние различия и травмы.
В книге «Пластичность на закате письма» (2010) Малабу развивает свою концепцию, переходя от анализа письма к исследованию нейробиологических основ субъективности. Она призывает выйти за пределы письма и знака – опорных понятий деконструкции – в сторону телесных и биологических оснований мышления: «Если Деррида провозгласил закат письма, то я провозглашаю зарю мозга» [14, p. 3].
В книге «Новые раненные» (2012) Малабу исследует феномен нейропластичности: «Пластичность мозга – это не просто адаптация, это открытость к разрыву, к радикальному изменению, к новому способу бытия» [13, p. 10]. В этом контексте пластичность приобретает политико-этическое измерение: она становится средством сопротивления, механизмом переживания утраты и основой для конституирования новой субъективности. В этих двух работах Малабу обращается к клиническим случаям, в которых личность необратимо трансформируется в результате тяжелой нейро-травмы: старая идентичность исчезает без возможности компенсации.
Один из обсуждаемых ею клинических примеров – это посттравматическое состояние пациента, утратившего память о собственной биографии. В этом случае разрушение формы идентичности ведет не к ее восстановлению, как в классическом психоанализе, а к появлению новой, чуждой, неузнаваемой субъектности: «После травмы мы больше не можем говорить об “одном и том же” субъекте. Мы имеем дело с другим – не в смысле инаковости, а в смысле разрыва» [13, p. 37]. Этот пример иллюстрирует разницу между пластичностью и эластичностью: эластичность возвращает форму после давления, пластичность – допускает ее утрату. В классической диалектике, где субъект сохраняется через снятие, нет места такому радикальному переформатированию. У Малабу же субъект исчезает, уступая место новому.
Возможность разрушения формы показывает, что диалектическое становление может не завершаться синтезом, а включает в себя разрыв и непредсказуемость как внутренне присущие субъекти-вации элементы. Таким образом, акцент смещается с идеи гармонии и логической завершенности на травму, утрату и непреодолимое различие – то, что традиционно исключалось из гегелевской системы.
В работе «Преобразующийся интеллект» (2018) Кэтрин Малабу впервые вводит понятие «морфируе-мая структура» [12, p. 8], обозначающее новый тип субъективности, формирующейся на пересечении нейробиологических, цифровых и политико-экономических процессов. Заимствовав термин «morphing» из языка цифровой графики, где он означает плавное преобразование одной формы в другую, Малабу придает ему философскую глубину: морфи-руемость здесь означает не просто способность изменяться, а онтологическую подверженность субъектной формы постоянной трансформации. Такая структура не только адаптируется к внешним условиям, но и программируется извне, утрачивая статус автономного, рационального и самотождественного субъекта. Современное Я в ее концепции – это подвижная, уязвимая система, одновременно управляемая нейронными связями и алгоритмическими кодами: «Мы не просто носители интеллекта. Мы – изменяемая система, формируемая одновременно нейронными и цифровыми процессами» [12, p. 23].
В данной книге Малабу соединяет свою теорию пластичности с критикой рационалистской традиции, подчеркивая, что в эпоху цифрового контроля субъективность больше нельзя мыслить как внутренне устойчивую: она всегда «морфи-рема», политически уязвима и биологически обусловлена. Она анализирует новый тип субъективности, возникающий в условиях цифрового управления, например алгоритмы, определяющие поведение пользователей в социальных сетях. По ее мнению, цифровая архитектура не просто влияет на выбор, а формирует привычки, эмоции и когнитивные паттерны: «Цифровая субъективность – это морфируемая структура, где нейронное и цифровое переплетаются, создавая нестабильного субъекта» [12, p. 81].
Такой субъект уже не может быть понятием в гегелевском смысле – он не стремится к разуму, не реализует свободу; он пластичен, но не автономен. Это определяет границы применения гегелевской диалектики в условиях цифрового капитализма. «Морфируемая структура» становится философским образом субъекта, существующего после письма и после стабильной идентичности – субъекта, находящегося в состоянии непрерывного переконструирования на стыке диалектики, деконструкции и нейронауки.
Пластичность в философии Малабу – это не просто свойство материи, но способ мышления и существования, способный объединить диалектику, деконструкцию и нейронауку в единую стратегию. В ее подходе ясно прослеживается отход от классической метафизики в сторону онтологии открытости, нестабильности и возможности разрушения. В этом контексте идеи Малабу созвучны философии Жана-Люка Нанси, «научившего ее видеть бытие как экспонируемое – как то, что раскрывается в совместности» [12, p. 87]. Она уточняет: «Я хотела бы усилить биологическое измерение этого экспонирования – через мозг, через травму» [12, p. 87]. Здесь совместность обретает не только онтологическое, но и телесное измерение, акцентирующее уязвимость и изменчивость субъекта. При этом Малабу подчеркивает: разрыв не предполагает полного уничтожения формы. В этом ее позиция расходится с философией различия Жиля Делёза, который, по ее мнению, доводит идею множественности до предела, исключающего саму возможность символизации: «Делёз уничтожает форму во имя разнородности, но тем самым отказывается от любой возможности символизации. Пластичность же сохраняет форму даже в момент разрушения» [12, p. 65].
Для Малабу форма остается ключевой философской категорией: она может быть разрушена, но даже в разрушении сохраняет способность означать, оставаясь частью процесса символизации. К этой проблематике Малабу обращается и в полемике с либеральной критикой телеологического монизма, продолжая разрабатывать идею формы как подвижной и нефиксированной. В «Новых раненых» она соглашается с И. Берлином в том, что идея исторического предназначения нередко служила оправданием насилия: «Телеология – это всегда политика» [13, p. 142]. Однако, в отличие от Берлина, она не отказывается от идеи формы, а настаивает на ее радикальной открытости, способности разрушаться и воссоздаваться. В «Преобразующемся интеллекте» она критикует
«агональный плюрализм» Дж. Грея, утверждая, что страх перед разрушением блокирует возможность подлинной трансформации: «Они хотят сохранить различие, но боятся разрушения. Однако только разрушение старых форм позволяет действительно новым ценностям проявиться» [12, p. 118].
Таким образом, мы видим, что в работах Ма-лабу последовательно выстраивается линия размышлений, в которой форма предстает не как устойчивая структура, а как подвижная и изменчивая конфигурация, способная нарушать заданный порядок, открываться новому и приобретать политическую значимость. Пластичность, понимаемая как способность формы к разрушению и воссозданию, становится ключевым условием свободы, субъектности и исторического становления.
Динамика времени в философииК. Малабу
Развивая концепцию пластичности, Кэтрин Ма-лабу обращается к еще одному ключевому элементу гегелевской философии – времени. Именно темпоральная структура диалектики, по ее мнению, позволяет переосмыслить традиционные представления о телеологии и открывает путь к пониманию диалектики как незавершенного, открытого процесса. В своей диссертации Малабу подчеркивает, что гегелевская мысль не замыкается в системе завершения и синтеза, а предполагает гораздо более сложную организацию времени, в которой будущее мыслится не как результат, к которому все ведет, а как напряженное поле возможностей, включающее в себя риск, случайность и деструктивность.
В отличие от линейной, кумулятивной модели времени просвещенческого рационализма, время у Гегеля, по Малабу, носит двойственный характер. С одной стороны, оно структурировано, подчинено логике постепенного развертывания понятий – от абстрактного к конкретному, от простого к сложному. С другой – в него изначально встроена возможность неожиданности, события, нарушения логического хода. «Диалектика – это не просто логика развития, это логика времени: становление может быть задержано, ускорено и даже прервано» [11, p. 58]. Эта темпоральная неоднородность, по сути, и делает гегелевскую диалектику пластичной – подвижной, чувствительной к реальности, способной реагировать на разрывы.
Именно в этом контексте Малабу вводит выражение «voir venir» – «видеть грядущее». Она заимствует его из повседневного французского языка, но философски переосмысляет, превращая в аналитический инструмент. Voir venir, по Малабу, – это форма антиципации, в которой ожидание и неопределенность сосуществуют. Будущее в этом понимании не может быть сведено ни к полному знанию, ни к абсолютной слепоте. Оно присутствует как частичная ясность, как предчувствие, способное разрушить любые логические или исторические предсказания. «“Видеть (то, что) грядет” – значит видеть, не видя; ждать, не дожидаясь; принимать то, что никогда не может быть полностью подготовлено» [11, p. xxiii].
Такое будущее Малабу называет «avenir sans gar-antie» – «будущее без гарантии». В отличие от марксистской интерпретации гегелевской диалектики, где история якобы ведет к предсказуемому итогу (например, к бесклассовому обществу), Малабу предлагает мыслить будущее как неустойчивую зону: «Не следует думать, будто Дух движется к зрелости. Он может быть ранен, травмирован, может распасться – и при этом не исчезнуть, а изменить свою траекторию» [11, p. 109]. Становление субъекта, таким образом, не ведет к финальной гармонии, но осуществляется через множественные линии разрыва, неопределенности и возможной катастрофы.
Малабу рассматривает катастрофу как философский случай разрушительной пластичности. Один из ярких примеров – нейронные изменения у солдат, переживших боевые действия. Малабу ссылается на нейропсихологические исследования, показывающие, что у ряда ветеранов войны фиксируются изменения мозговых структур, приводящие к полной трансформации характера, утрате эмоциональной отзывчивости, появлению агрессии. Она комментирует: «Речь не идет о психологической адаптации. Это онтологическая мутация» [11, p. 49]. Разрушительная пластичность демонстрирует, что форма может не только изменяться, но и исчезать, причем без надежды на возвращение. Это нарушает саму предпосылку Aufhebung как логики сохранения. Диалектика, в этой перспективе, становится полем борьбы, где форма не гарантирована.
Интерпретация времени у Малабу сближает ее с Хайдеггером, но с существенной оговоркой: она не следует за Хайдеггером в его полном разрыве с метафизикой. Напротив, она стремится показать, что сама гегелевская система уже содержит в себе «возможность незавершенности» – не как ошибку, а как конструктивный элемент: «Хайдеггер объявил завершение метафизики, Гегель – ее кульминацию. Я же утверждаю, что Гегель допускает незавершенность как структурную возможность внутри самой метафизики» [11, p. 144]. Вместо традиционного – «Хайдеггер читает Гегеля» – Малабу предлагает инверсию: вообразить ситуацию, в которой сам Гегель обращается к Хайдеггеру, словно читает его в будущем (этому разбору она посвящает параграф своей диссертации под названием «Гегель читает Хайдеггера»). Такое смелое смещение перспективы позволяет рассматривать гегелевскую диалектику не как замкнутую систему, а как открытую структуру, способную впитывать и переосмысливать ключевые интуиции хайдеггеровской философии. В первую очередь – интуицию времени как события, всплеска, неожиданности. «Будущее Гегеля – это, возможно, и будущее Хайдеггера. Гегель может принять Хайдеггера. Он читает его в будущем» [11, p. 144]. Воображаемое чтение позволяет не просто сопоставить идеи двух философов, но выявить в гегелевской системе потенциал для выхода за пределы телеологического мышления: «Читать Хайдеггера через Гегеля – значит увидеть другую форму будущего: не как завершения, а как вторжения, всплеска, изумления» [11, p. 147].
Особое внимание Малабу уделяет двойственной структуре времени в самой гегелевской логике. Она различает два темпоральных режима: первый – поступательное, диалектическое развертывание понятий (связанное с Auf-hebung ), и второй – разрывное, дестабилизирующее время, связанное с гегелевской негативностью ( die Negativitat ). В первом случае речь идет о логике сохранения и развития, где противоречие разрешается в более высокой синтетической форме, во втором – о времени разрушения, в котором появляется нечто качественно новое, невыводимое из предшествующего. Эти два режима не противоположны, они взаимодопол-няют друг друга, делая диалектику структурно подвижной: «Будущее не следует за прошлым, как следствие причины, оно разрывает его, как рана, и при этом именно через эту рану происходит открытие нового» [11, p. 117]. Так Малабу подводит к центральному выводу своей философии времени: диалектика не может быть понята как путь к заранее заданному финалу. Это открытая структура, в которой темпоральность служит не фоном, а внутренним ресурсом становления. Время здесь не только организует движение понятий, но и нарушает его, давая место новизне и событию. «Ждать – значит творить», и это ожидание никогда не может быть полностью рационализировано.
Таким образом, гегелевская диалектика в интерпретации Малабу – это не путь к завершенному знанию, а пластичная, темпорально чувствительная система, открытая к разрыву и переопределению. В ней субъект не следует по траектории необходимости, но участвует в становлении как в непредсказуемом процессе, где будущее мыслится не как результат, а как вызов. Это и позволяет Малабу преодолеть как телеологический финализм, так и хаотичную фрагментарность, сохранив при этом идею трансформации как онтологического принципа.
Пластичность как онтология сопричастности
В более поздних работах Кэтрин Малабу постепенно переходит от анализа диалектики как логической структуры к ее интерпретации как онтологического процесса, в котором материя, форма и смысл находятся в постоянном взаимодействии. Пластичность в этом контексте становится не просто характеристикой отдельных сущностей, а фундаментальным принципом бытия как становления. Ни одна форма не существует в изоляции – каждая возникает, изменяется и исчезает в ходе взаимодействия с другими формами. Этот процесс Малабу обозначает как «взаимное наделение формой» (mise en forme réciproque) – формообразование, возникающее не в результате внешнего навязывания, а благодаря соучастию, взаимному воздействию и обмену между различными уровнями материи и смысла. «Форма – это не граница, не завершенный контур. Это энергия, которая циркулирует между материей и значением. Быть пластичным – значит быть способным не только сохранять, но и перестраивать себя» [13, p. 42].
Пластичность мыслится Малабу не как отказ от формы, а как признание ее первичного телесного истока и способности к радикальной трансформации, опережающей любые символические системы. Тем самым пластичность позволяет выйти за пределы символоцентризма, открывая онтологическую приоритетность материального становления. Подобная оптика позволяет Малабу переосмыслить традиционное понимание символического порядка как автономной структуры, управляющей материей и телесностью: «Не следует считать, что мозг просто подчиняется символической системе. Напротив, нейропластичность демонстрирует, что сама структура мозга может быть местом появления новых форм субъективности, до всякой символизации» [15, p. 31].
Символическое у Малабу не нависает над телесным, как трансцендентный код, а возникает из самой материи. Речь идет о принципиально ином распределении онтологических приоритетов: не дух «вписывает» значение в тело, а тело – в его материальной и нейронной структуре – становится местом первичного смыслообразования. Малабу подчеркивает, что нейропластичность проявляется в способности мозга не просто адаптироваться к внешним условиям, но и порождать формы субъективности, которые не сводятся к языковым или знаковым структурам.
В этом контексте также важен диалог с философией Рози Брайдотти, особенно в рамках постгуманистической повестки. В «Постчеловеке» (2013) Брайдотти пишет: «Координируемое неповторимым контуром передачи информации, тело – это живая система записи, способная сохранять, извлекать и обрабатывать необходимую информацию с такой скоростью, что это кажется инстинктивной реакцией» [7, p. 56]. Малабу отвечает на это посредством концепта мозга как морфируемой структуры, подчеркивая, что мозг – это не просто орган мышления, а «политическое и этическое поле», где решается судьба субъекта [15, p. 25]. Тем самым материя в ее философии получает статус активного агента – не подчиненного символическому, а продуцирующего его в самом акте своего становления. Символическое больше не выступает в роли внешнего архитектора формы, а само зависит от пластической логики, разыгрывающейся на уровне материи. Такая позиция позволяет Малабу преодолеть как те-леологизм гегелевской формы, так и знакоцен-тризм деконструкции, предложив динамическую модель соформирования духа и тела в логике пластичности.
В философском смысле пластичность у Ма-лабу размыкает границу между логическим и материальным, между концептом и телом. Символическое больше не является самоценной системой; оно вписано в плоть, травму, нейронную архитектуру, политическое насилие. В этом смысле пластичность – не просто характеристика адаптации, но возможность появления формы там, где прежде не было ни структуры, ни смысла.
Пластичность оказывается не теоретической схемой, а способом бытования субъекта, его отношения к другим, к истории, к языку. Субъект формируется и разрушается в процессе встречи, в соприкосновении с другим, в событии, которое нельзя ни предсказать, ни вписать в структуру. Это касается не только человеческой психики или мозга, но и политических форм: революции, катастрофы, травматический опыт становятся проявлением пластичности, которая действует не только как сила разрушения, но и как условие формирования новых форм субъективности.
Таким образом, Малабу предлагает не просто философию формы, но онтологию взаимного формирования, в которой символическое, материальное и ментальное неразрывно переплетены. Пластичность здесь – не метафора гибкости, а принцип, описывающий, как возможны бытие, субъект, структура и их трансформация. За пределами символического, но не вне смысла – так Малабу обозначает контуры новой метафизики, в которой материя уже не пассивна, а формирует сама и позволяет быть сформированной.