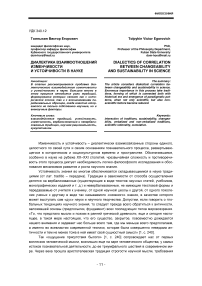Диалектика взаимоотношений изменчивости и устойчивости в науке
Автор: Толпыкин Виктор Егорович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема диалектического взаимодействия изменчивости и устойчивости в науке. Большое место в этом процессе отводится роли традиций, формирование которых связано как с исторической эпохой, так и с возникновением парадигмальных образцов, когда властно вторгаются не только собственно научные, но и вненаучные факторы.
Взаимодействие традиций, устойчивость, изменчивость, вербализованные и невербализованные традиции, научная рациональность, кумулятивизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14940505
IDR: 14940505 | УДК: 340.12
Текст научной статьи Диалектика взаимоотношений изменчивости и устойчивости в науке
Изменчивость и устойчивость – диалектически взаимосвязанные стороны единого, целостного по своей сути и своим основаниям познавательного процесса, развертывающегося в историческом и социокультурном времени и пространстве. Обозначившаяся, особенно в науке на рубеже ХХ–ХХI столетий, чрезвычайная сложность и противоречивость этого процесса диктует необходимость логико-философского исследования и обоснования механизмов развития и роста научного знания.
Устойчивость знания во многом обеспечивается складывающимися в науке традициями (от лат. traditio – передача). Традиции в зависимости от способа осуществления делятся на вербализованные (существующие в виде текстов научных статей, учебников, монографических изданий и т. д.) и невербализованные, не имеющие текстовой формы и передаваемые от учителя к ученику, от одной научной школы к другой, от одного поколения ученых к другому в виде так называемого «неявного» знания, в качестве которого может выступать сам «дух» науки и научного творчества. Допустим, если говорить о глобальных тенденциях научного знания, то следует прежде всего обратиться к античности, заложившей основы (предпосылки, фундамент) всех последующих типов мировоззрения. «То, что предстало мысли и поэзии в ранней греческой древности, еще и сегодня настоящее, в такой мере настоящее, что его существо, закрытое, повсеместно дожидается нашего внимания и задевает нас больше всего там, где мы меньше всего предполагаем, а именно во всевластии современной техники, которая была совершенно неведома античности и тем не менее тоже в ней имеет свой сущностный смысл» [1, c. 240].
Так «ощущение присутствия былого» [1, c. 240] сопровождает нас от первых всплесков человеческой мысли, возникших еще на заре человеческого общества, у самых истоков познавательной деятельности, до ее триумфального шествия в современном мире. Через века прошла аристотелевская традиция строгости научной мысли, требования ее логической непротиворечивости и обоснованности. «Дух» сократовско-платоновской традиции иной: не столько строгость, сколько изящество, не столько логическая завершенность и лаконизм формы, сколько полет фантазии, воображения, причудливое переплетение вымысла и реальности, мифа и логоса, рациональности и неуемной парадоксальности суждений.
В процесс формирования традиций властно вторгаются не только собственно научные, но и вненаучные факторы, к которым можно отнести социокультурный фон исторической эпохи, господствующие типы мировоззрения, систему ценностных ориентаций, эстетическое, нравственное обрамление научных идей, взглядов, теорий и т. д.
Формирование традиций, связано также с возникновением тех или иных парадиг-мальных образцов, которые подразделяются на так называемые образцы-действия, включающие, в частности, определенную совокупность и последовательность методов, способов, операций научного исследования, его инструментарий; и образцы-результаты в виде, например, аксиом, открытых законов, разработанных в процессе исследования классификаций и т. д.
Традиции в зависимости от сферы применения делятся на общенаучные и специально-научные. В те исторические периоды, в которые преобладали процессы дифференциации научного знания, акцент делался на частнонаучные традиции. ХХ в. – век преимущественно интеграционных процессов в науке, а соответственно и формирования главным образом общенаучных традиций. Более того, в настоящее время нередки случаи заимствования одной наукой той или иной части традиций других, смежных, и не только смежных, а порой достаточно удаленных областей научного знания. Так, например, разработанные биологией идеи глобального эволюционизма и принцип системности в настоящее время широко используются не только естественными, но и общественными науками.
Традицию можно рассматривать как открытую систему знания, готовую не только к внутреннему совершенствованию, но и к глубокому качественному обновлению, то есть к возникновению новых традиций, выступающих по отношению к прежним как новации. Иначе говоря, новации не есть нечто, противостоящее традиционно сложившемуся знанию и методам его реализации. Напротив, современная философия науки приходит к согласованному выводу о том, что новое знание является не чем иным, как интегрированным результатом многообразных традиций, взаимодействующих не только между собой, но и со всем поистине необозримым спектром различных социокультурных процессов и явлений. Именно смысловое пространство традиций становится той питательной почвой, на которой, образно говоря, «произрастает» новое знание. В этом смысле границы, разделяющие знание и незнание, традиции и новации, – достаточно зыбкие, ибо человек – единственный из всех живых существ, кому ведомо не только само знание, но и «знание о незнании». Поэтому для человека естественно включение в структуру познавательной деятельности не только того, что он знает, но и того, чего он не знает, но к чему устремляется его пытливый разум.
Известно, что, например, в физике на рубеже XIX–XX столетий было обнаружено свойство аннигиляции (от позднелат. annihilatio – уничтожение, исчезновение) части вещества при синтезе четырех атомов водорода с образованием атомов гелия. Такое же явление наблюдалось и при радиоактивном распаде, где совокупная масса продуктов распада оказывалась меньше исходной массы урана, радия и других радиоактивных элементов. А поскольку в классической механике масса определялась как мера количества материи, равная произведению плотности на объем занимаемого тела, то соответственно вопрос об аннигиляции массы вещества приобрел более глобальную, уходящую вглубь философского мировоззрения форму утверждения об исчезновении материи: «Материя исчезает, атом дематериализуется», то есть утрачивает свою материальную природу. Вопрос «Куда исчезла часть массы?», трансформировавшийся в вопрос более глубокого звучания «Куда исчезла материя?», сформированный в пространственных границах имеющегося, наличного знания, не дающего сколько-нибудь приемлемого ответа, потребовал новых, теоретических подходов.
Такой ответ был найден лишь на пути исследования микромира и открытия нового вида материи – электрических, магнитных, гравитационных, внутриядерных полей. Было установлено, что и при образовании гелия, и в процессе радиоактивного распада часть массы и энергии вещества превращается в массу и энергию излучения (поля). То есть известный фундаментальный закон природы – закон сохранения и превращения вещества и энергии находит свое наглядное подтверждение. С методологической точки зрения достаточно рельефно просматривается, как знание рождает незнание в форме проблемы, настоятельно требующей своего разрешения в виде качественно нового знания, представляющего собой своеобразный теоретический синтез традиционного и инновационного, того, что уже сложилось в науке, и того, что предстоит познать, открыть, исследовать.
Очевидно, что возникновение нового знания, как правило (хотя при любых, самых устойчивых правилах возможны и исключения), является результатом целенаправленных действий ученых. Если, например, обратиться к одной из актуальнейших проблем современной вирусологии, стоящей перед угрозой пандемии птичьего гриппа, то можно с полным основанием утверждать, что науке уже известны основные характеристики этого коварного вируса, возможность его мутирования, пути распространения, симптомы и т. д. Арсенал знания достаточно обширен. Но пока человечество не располагало таким объемом знания, оно и не ощущало всей степени грозной опасности, в водоворот, точнее, в пучину которой оно может быть втянуто. Для него этого явления не существовало, и вопрос о создании универсальной вакцины для борьбы с вирусом принципиально не мог быть поставлен подобно тому, как И. Ньютон не мог ставить вопросы о квантовомеханических процессах, поскольку свойства микромира были открыты и изучены лишь во второй половине XIX в.
В ХХ же в. определилась новая исследовательская область – микромир живого, что привело к возникновению таких новых областей научного знания, как биохимия, молекулярная биология, а еще позднее генетика и многообразие ее ответвлений. Так из незнания рождалось знание. При этом следует отметить, что возникновение нового знания в рамках уже сложившихся научных традиций может быть не только результатом целенаправленных исследований, но и спонтанным, порой настолько непредсказуемым, что приводит в изумление и даже в смятение ученых. К числу подобного рода открытий можно отнести явление радиоактивности, раскрывшее чрезвычайно сложную структуру атома и атомного ядра, что привело не только к значительному расширению сферы, ареала исследования, но и к формированию качественно новых, отличных от существовавших ранее традиций.
Новое знание, хотя и возникает в смысловом поле предшествующего знания, тем не менее не выводится из него. Оно имеет самостоятельные, присущие только ему источники и механизмы развития. И вместе с тем новые достижения в науке, даже самые фундаментальные, не разрушают предшествующих им теорий. Так, возникновение релятивистской механики не привело к крушению классической механики Ньютона, а лишь установило четкие границы ее действия для макромира, мира относительно больших, видимых невооруженным глазом тел, движущихся с относительно малыми (сравнительно с общепринятым эталоном) скоростями. То же можно сказать и в отношении молекулярной биологии, исследующей микромир живого – клетки, клеточные и субклеточные структуры. Возникшая в недрах классической биологии, молекулярная биология обрела само- стоятельный вектор развития, значительно расширивший и вместе с тем принципиально обновивший весь арсенал гносеологических, методологических и мировоззренческих оснований биологического знания.
Развитие науки, и особенно становление современных областей научного знания, наиболее убедительно показали историческую ограниченность как кумулятивизма, акцентирующего внимание исключительно на статичности, устойчивости и самодостаточности научных теорий, так и антикумулятивизма, логическим следствием которого явилось фактическое отрицание преемственности в науке. Каждый виток в развитии научного знания знаменует собой диалектическое единство прерывности (цикличности) и непрерывности, поступательности и преемственности, традиций и возникающих в их рамках и одновременно выходящих за их пределы новаций.
Ссылки:
1. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.