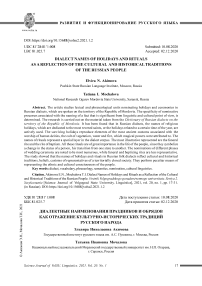Диалектные наименования праздников и обрядов как отражение культурно-исторических традиций русского народа
Автор: Акимова Эльвира Николаевна, Мочалова Татьяна Ивановна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 1 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе охарактеризованы языковые единицы, номинирующие праздники и обряды в русских народных говорах, бытующих на территории Мордовии. Определена специфика номинативных процессов, связанных с фиксацией в языке значимого в лингвокультурном плане факта. Исследование проводится на материале «Словаря русских говоров на территории Республики Мордовия». Установлено, что в русских говорах активно употребляются наименования религиозных праздников, посвященных наиболее почитаемым святым, и праздников, относящихся к тому или иному времени года. Выявлено, что сохранившиеся праздники воспроизводят элементы древнейших обычаев, связанных с поклонением божествам, культом растительности, воды и огня, которым приписывали магическую силу. Определено, что особый пласт в составе диалектного корпуса представляют наименования обрядов, поскольку они имеют важнейшее значение в жизни народа, символизируя изменение статуса человека, переход его из одного состояния в другое. Разнообразны номинации этапов свадебного обряда, менее репрезентативны похоронно-поминальный обряд и обряд крещения. Исследование показало, что названия праздников и обрядов отражают культурно-исторические традиции, верования, обычаи представителей территориально замкнутого социума, являются своеобразными способами репрезентации этнокультурного сознания народа.
Диалект, лексика, фразеология, семантика, номинация, лингвокультурология
Короткий адрес: https://sciup.org/149137929
IDR: 149137929 | УДК: 81'28:81'1:008 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.1.2
Текст научной статьи Диалектные наименования праздников и обрядов как отражение культурно-исторических традиций русского народа
DOI:
Этнический облик духовной культуры в конкретный период развития того или иного народа отражается в языке. Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский справедливо отмечают, что «в реальном историческом функционировании язык и культура неотделимы: невозможно существование языка, который не был бы погружен в контекст культуры, и культуры, которая не имела бы в центре себя структуру типа естественного языка» [Лотман, Успенский, 1971, с. 146]. Язык является посредником, механизмом накопления и трансляции культурно-исторических знаний и опыта, который складывается у людей разных национальностей в процессе постижения ими многообразия мира. Однако, по словам Л.М. Штейн-гарт, самым мощным средством формирования мировидения, средством влияния на формирование сознания, образа мыслей является культура, или национально-культурная специфика определенной лингвокультурной общности [Штейнгарт, 2006, с. 12].
Наиболее репрезентативны в плане отражения внешних условий жизни, ментальных представлений человека и его поведенческих реакций лексические и фразеологические единицы, называющие календарные праздники и обрядовые действия, поскольку они своими истоками уходят в глубокую древность, отражают образ мира предков, куль- турно-исторические традиции этноса. Обрядовая диалектная лексика и фразеология, сохраняющая сакральные черты самобытной народной культуры, неоднократно становилась объектом этнолингвистических, культурологических и историко-этнографических исследований. Так, в работах отечественных лингвистов представлено изучение свадебного обряда на материале различных говоров [Гайсина, 2007; Гура, 2012; Житникова, 2006; Миронович, 2012; Фомичева, 2012; Чу-харева, 1978; и др.]. Внимание исследователей привлекает календарная лексика, связанная с различными христианскими праздниками, поскольку она до настоящего времени сохранила в говорах черты ушедших и уходящих верований, примет, традиций русского народа [Байбурин, 1993; Банкова, 1998; Бахвалова, 2015; Зубова, 2006; Костромичё-ва, 2007; Кузнецова, 1999; Меркулова, 1994; Тихомирова, 2008; и др.].
Объектом нашего исследования являются лексические и фразеологические единицы, номинирующие праздники и обряды в территориально ограниченном социуме – Республике Мордовия. Заметим, что на материале русских говоров Мордовии диалектная фразеология изучалась в этнолингвистическом и лингвокультурологическом аспектах [Акимова, Маслова, Мочалова, 2014; Маслова, Мочалова, 2013; Человек..., 2015], а также с точки зрения репрезентации в ней языческого и христианского мировоззрения [Мочалова, Маслова, 2014]. Как мы уже отмечали, анализ таких диалектных единиц становится особо значимым при изучении истории культуры всего народа, поскольку наименования артефактов-предметов материальной культуры, емкая образная характеристика обрядов не только содержат лингвистическую информацию, но и дают представление о разных сторонах жизни и деятельности русского человека конкретного региона, в частности территории Мордовии [Акимова, Маслова, Мочалова, 2014, с. 97].
Вместе с тем наименования календарных праздников и народных обрядов, функционирующие в русских говорах Мордовии и являющиеся региональным вариантом славянских культурно-исторических традиций, продолжают оставаться недостаточно изученными и представляет несомненный интерес для дальнейших лингвистических изысканий.
Материал и методы
Материалом исследования послужили языковые единицы, извлеченные в результате сплошной выборки из «Словаря русских говоров на территории Республики Мордовия». При разработке проблемы и для реализации цели исследования использовались как общенаучные (обобщение, абстрагирование, формализация, анализ, синтез), так и собственно лингвистические методы. Применялся описательный метод для научного представления языкового материала; метод компонентного анализа языковых единиц – при установлении системных иерархических связей между ними; метод контекстного анализа – при выяснении плана содержания рассматриваемых слов и устойчивых сочетаний. Изучаемые лексические и фразеологические единицы охарактеризованы в зависимости от наличия в их смысловой структуре интегральных и дифференциальных компонентов значения. Кроме того, в работе при рассмотрении наименований праздников и обрядов был использован метод лингвокультурологической интерпретации, основанный на анализе языкового материала с привлечением сведений по истории, культуре, социальной организации сообщества.
Результаты и обсуждение
В русских говорах на территории Республики Мордовия представлен уникальный лексический и фразеологический корпус, номинирующий календарные праздники, а также связанные с ними обычаи, поверья, верования славян. Разнообразный фактический материал свидетельствует о том, что «календарные праздники как часть традиционной культуры тесно связаны с культурно-хозяйственными и культурно-этническими процессами и представляют собой сплав реального, основанного на богатейшем эмпирическом опыте, и ирреального – синкретизма верований, элементов древних обрядовых культов, местных мифологических преданий и пр.» [Кузнецова, 1999]. Можно говорить о двух разновидностях календарных праздников: во-первых, религиозные праздники, посвященные какому-либо святому; во-вторых, традиционные праздники, приуроченные к какому-то событию либо времени года.
Повседневная крестьянская жизнь была тяжелой, изнурительной, постоянный физический труд отнимал здоровье и силы, ежедневный рацион сельского населения не отличался обилием и разнообразием блюд. Поэтому праздника в селах с нетерпением ждали не только дети, но и взрослые, в эти дни устраивались массовые гуляния с хороводами, песнями и плясками, сезонными играми и забавами, во всех домах готовились традиционные кушанья. Неслучайно в русских говорах сохранились наименования таусень , 2 усенька во 2-м знач., 1 та-усина , обозначающие обряд прославления песнями самого праздника (обычно Рождества или Крещения), а также называющие используемую для этого песню, коляду:
-
(1) Пъ сиделкъм хадили, таусинь кричали (Майдан, Старошайговский район);
-
(2) С таусиним мы пъ домам ходили, деньги, пироги събирали (Кергуды, Ичалковский район).
Непосредственно процесс прославления праздника песнями обозначал глагол тау-сенькать .
Наименования религиозных праздников
Славянские обычаи и традиции берут свое начало в глубокой древности, и каждое ритуальное действие имеет особый символический смысл. Так, человек всегда обращался за помощью к высшим силам, искал у них покровительства. Неслучайно в исследуемых говорах представлены многочисленные названия церковных праздников в честь почитаемых святых. Эти праздники отмечаются в строго фиксированный день или могут быть переходящими, не имеющими постоянной даты.
Разнообразные христианские праздники связаны с различными этапами земной жизни Господа Иисуса Христа и Божией Матери. В православной традиции центральной фигурой является Иисус Христос, учению которого следуют верующие, к которому обращаются с молитвами, с которым делятся сокровенными мыслями, имя которого прославляют. Весной в честь Воскресения Иисуса Христа празднуется главный и один из любимых христианских праздников – Пасха. В говорах Мордовии зафиксирован лексикофонетический диалектизм Пáска . Этому религиозному празднику предшествует Великий пост, накануне праздника женщины тщательно убирают жилище, готовят к этому дню много символических угощений:
-
(3) Датай их малъ, паскъх-тъ быват? Што ни гот, то Паскъ . У бабъх-тъ пирит Паскъй самъ ра-ботъ: избу вымыть надъ, аклиить, шаблы фсе пири-мыть. Хватат дялох-ть (Каймар, Краснослободский район).
Пасхальная неделя завершается от-даньём – последним днем Пасхи:
-
(4) Паскъ прайдёт, а патом быват адданье Пас-ки (Стародевичье, Ельниковский район);
-
(5) В адданьё Христос аддалилси па лесницъ (Михайловское, Ковылкинский район).
Одним из двенадцати главных праздников православной церкви является Вознесение Господне, который отмечается на сороковой день после Пасхи и имеет для верующих важное значение. В этот день было принято ходить в церковь на службу, чтобы помолиться о здравии и благополучии всех членов семьи, поскольку в соответствии с религиозными представлениями считалось, что в этот праздник Господь выслушивает просьбы людей и исполняет их. В русских говорах Мордовии зафикси- рованы вариативные наименования этого праздника: Взвесеньё, Взнесеньё, Звесеньё – ‘церковный праздник Вознесение’:
-
(6) Бывалъчи Взнисиньё празнъвъли, тапери-чи нет (Пятина, Ромодановский район).
Важным атрибутом этого праздника была выпечка в форме лесенки, символизирующей путь на небо:
-
(7) Нъ Взвисиньё пякут лесинки из муки с кашъй (Михайловское, Ковылкинский район).
Фразеологическая единица Сдвиженья день номинирует религиозный праздник Воздвиженье Креста Господня, который является непереходящим и всегда отмечается 27 сентября:
-
(8) Здвижънья день – значит, усё с полю здви-нулъсь. На Здвижънья день ни должон снек итить (Подлесная Ивановка, Торбеевский район).
На Руси этот праздник объединял в себе церковные и народные традиции. Издревле существовал обычай устанавливать в этот день небольшие часовни, придорожные кресты, обходить с иконой поля и молиться о будущем урожае.
Церковный праздник Крещения Христа отмечается 19 января после череды новогодних праздников и называется в народной среде Кщенье . Он связан с культом воды, ее очищающей силой, избавляющей от грехов и дарующей здоровье, поэтому, несмотря на мороз, проходило массовое погружение людей в прорубь:
-
(9) На Кщенья марос-тъ сильный был, а атец мой ф пролуби купалси (Куликово, Тенгьгушевский район).
Почитаемый на Руси праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы сокращенно называли Введением. В русских говорах Мордовии зафиксировано наименование вве-деньё – ‘религиозный праздник Введение в храм Богородицы (21 ноября по старому стилю)’. У славян этот праздник ассоциировался с наступлением зимы, поскольку проходили гулянья, зимние игры и первые катания на санях, по этому дню судили о предстоящей по- годе и будущем урожае. Заметим, что иллюстративный материал показывает утрату актуальности и массовости проведения этого праздника в современной деревне:
-
(10) Ввидиньё – бальшой празник, дъ си-чяс ыво никто ни пъчитат (Кулишейка, Рузаевский район).
Религиозный праздник Рождества Богородицы ежегодно отмечается православными верующими 21 сентября и называется в русских говорах Мордовии адовский праздник . В народной среде не сохранилось сведений об истории возникновения такого наименования:
-
(11) Празник Ръжоства Бъгородицы нъзы-вают адъфским празникъм (Суподеевка, Арда-товский район).
Несколько христианских праздников сельские жители отмечают в августе: яблочный спас – ‘христианский праздник Преображение Господне (19 августа), после которого разрешалось есть яблоки’, успленье – ‘праздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа)’ . Каждый из этих праздников связан с приемом какой-либо символической пищи. Яблочный спас ассоциируется с первым урожаем плодов, с созреванием яблок:
-
(12) Яблъки нъчинают есть с яблъшнъвъ спасъ (Шаверки, Краснослободский район).
Доедая освященное в церкви яблоко, принято было загадывать желание.
На Успленье готовили каши и пекли хлеб из муки и крупы нового урожая:
-
(13) Сначалъ идёт успленскъй пост две недели, потом 28 августа будит Успленья , ръзгов-ляюццъ кашъй (Суподеевка, Ардатовский район).
В церковной традиции особо почитался святой Николай Чудотворец, который воспринимался на Руси как покровитель русского народа и крестьянский заступник. В диалектной среде зафиксирован народный вариант наименования этого праздника – Микола. Почти до начала ХIХ в. Николины дни во многих русских деревнях были престольными праздниками, считались важнейшими после Пасхи. Они отмечались зимой и вес- ной: 19 декабря (Никола Зимний, Холодный) и 22 мая (Никола Вешний; Теплый, или Летний), поэтому и в исследуемом фразеологическом корпусе соответственно встречаются наименования вёшняя Микола и зимняя Микола:
-
(14) У нас две Миколы : зимния Миколъ и вёшния Миколъ , празники этъ (Никольское, Тор-беевский район).
В русских говорах на территории Мордовии употребляются словообразовательные варианты Кузьминка , Кузьминки , Кузьмушка , Кузьминки , называющие религиозный праздник, который отмечается 1 ноября по старому стилю, – День Кузьмы и Демьяна. По мнению исследователей, «особое внимание к этим святым в сельской среде объясняется тем, что святые Кузьма и Демьян славились как мастера и труженики, покровители семейного очага и супружеского счастья» [Маслова, Мочалова, 2013, с. 63]. Носители диалекта отмечают значимость этого праздника, сопровождавшегося песнями и плясками, народными гуляньями:
-
(15) Вот Кузьмишник тады был, песни пели, дефки плясали (Такушево, Тенгьгушевский район);
-
(16) Събирёмси мы нъ Кузьминку и давай песни петь (Ключарёво, Рузаевский район).
Интересен тот факт, что жители разных сел указывают на важность данного события в большей степени для девушек или парней, поскольку на таких народных гуляниях молодые люди знакомились и впоследствии создавали семьи:
-
(17) А Кузьминкъ – этъ для девък празник был (Рождествено, Ичалковский район);
-
(18) Парни ждут ни даждуццъ Кузьмушки (Куликово, Тенгьгушевский район).
Устойчивое сочетание Кузьму сидеть характеризует особенности проведения церковного праздника Кузьмы и Демьяна: с вечера и до рассвета деревенская молодежь собиралась на посиделки в большой избе, в которой девушки готовили угощения и приглашали к столу парней:
-
(19) Кузьму сидеть ребятъ и дефки па осени събирались (Марьяновка, Большеберезниковский район).
Принято было в это день устраивать ссып-чину – складчину перед церковным праздником Кузьмы и Демьяна, в которой участвовали только девушки:
-
(20) Бывалъчи мы и ни слыхали пра празник 8 Мартъ, заместъ иво у нас был свой – Кузьминкъ. Как патходит время, устраивъм ссыпчинку (Смоль-ково, Лямбирский район).
День Святой Троицы – важный православный праздник, который верующие отмечают на пятидесятый день после Пасхи и называют его также Пятидесятницей. В русских говорах Мордовии зафиксировано такое название этого праздника, как седмица . Дата Пасхи ежегодно меняется, и Троица, соответственно, не имеет закрепленного дня. На Троицу традиционно храмы украшают ветвями и травой, при этом зеленый цвет символизирует обновление. Обычай плести венки и водить хороводы в лесу в Троицын день номинирует в локальной лингвокультуре фразеологизм идти под венки . Троицын день всегда сопровождался праздничным гуляньем в честь проводов весны, которые в деревнях называли люлё , полюлё , полелё. Этот праздник был ожидаемым в народе, сельские жители наряжались, пели песни, водили хороводы:
-
(21) На Троицу фсягда пълюлё быват. Самъ лутшъ нъдявали, када ф пълюлё-тъ хадили (Соколов Гарт, Чамзинский район);
-
(22) Ф пълюлё , бывалъ, в лес хадили дъ фсё песни пели, хъраводы вадили. И стърики, и дети ждали пълилё , фсем хателъсь виселья, с нитирпе-ньим ждали (Ключарёво, Рузаевский район).
До принятия христианства в славянском календаре отмечался Семик, символизирующий переход от весны к лету. В исследуемых говорах сохранилось упоминание об этом празднике ( семийка , 1семишник , семик – ‘весенний праздник в четверг перед Троицей’) и о существовавшем культе растительности: березовыми ветками украшали жилище, ходили в лес, наряжали березу, водили вокруг нее хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу:
-
(23) Нъ Симик ходют в лес, зъвивают вянки (Покрышкино, Ромодановский район).
В крестьянской среде существовал особый обычай, который назывался грáнки стáвить : за три дня до Троицы на дорогах возводились преграды из бревен и плетней:
-
(24) У нас и сицас гранки ставют . Сиводни увидити, как рабяты будут гранки ставить (Петровка, Дубенский район).
В исследуемых говорах зафиксированы наименования религиозного праздника Преполовение: Половеньё , Прополвеньё . Преполовение Святой Пятидесятницы – это один из древнейших христианских праздников, называющих половину срока, середину по времени между двумя церковными праздниками – Пасхой и Троицей. В традиционной русской культуре после этого праздника можно было собирать грибы, идти на кладбище, что подтверждает исследуемый материал:
-
(25) Скоръ Пълъвиньё , нъ магилки пайдём (Муравлянка, Ельниковский район);
-
(26) Вот прайдёт Пръпълвиньё , зъ грибами пайдём (Павловка, Лямбирский район).
В народном сознании маркировались также временные отрезки, обозначающие промежутки между двумя большими религиозными праздниками: путúна во 2-м знач. – ‘отрезок времени между Масленицей и Пасхой; Великий пост’, свечки – ‘промежуток времени от Рождества до Крещения, святки’:
-
(27) А путины-тъ срокъм большыи были. Во время путины-тъ мы ф Самару ездили (Енга-лычево, Дубенский район).
В традиционной русской культуре и в православной традиции обязательными элементами были различного рода ограничения верующих для очищения духа, отречения от всего греховного. Диалектная лексическая единица питиньё в 1-м знач. служит у верующих для обозначения церковного наказания – епитимий. Верующие в обязательном порядке исполняли все наложенные на них наказания:
-
(28) Раньшъ поп питиньё наложыт и фсё спал-няли, гриха баялись (Летки, Старошайговский район).
В русских говорах Мордовии зафиксированы различные наименования, связанные с постом и ограничением человека в пище:
загванье – ‘последний день перед постом, когда верующим разрешается есть скоромное; заговенье’, петровка – ‘пост перед Петровым днем’, успленский – ‘Успенский (пост)’:
-
(29) Апасля загвънья пост, скаромнъя ни идят (Анненково, Ромодановский район);
-
(30) Сначалъ идёт Успленскъй пост две недели (Суподеевка, Ардатовский район).
Наименования сезонных праздников
Сезонные праздники на Руси были связаны с земледельческими традициями далеких предков восточных славян. Знаковыми в сознании сельского жителя становились переходы от одного времени года к другому, поскольку эти периоды обозначали важные события в жизни крестьянина: окончание зимы, начало посевной, сбор урожая и др. Неслучайно в традиционной русской культуре сохранились наименования праздников, посвященных проводам того или иного времени года.
Весна в народном календаре знаменовала собой начало активного периода в жизни человека, возобновление сельскохозяйственных работ. В православной культуре считалось, что весна символизирует победу жизни над смертью, добра над злом. На Руси до XIV в. наступление нового года отмечали весной, в день весеннего равноденствия. Важным событием считался переход от зимы к весне, поэтому на Руси широко отмечались проводы зимы. В говорах сохранилось название праздника проводов зимы, Масленицы – мáслена в 3-м знач. Старинный славянский праздник проводов зимы обозначался глаголом масловать :
-
(31) Эх и любили бывалъчи мъславать , с утра маслуим, фсю ниделю мъславали (Старая Михайловка, Ромодановский район).
Многочисленные праздники отмечаются в мае, так как этот месяц характеризуется активным ростом и цветением растений, переходом к сельскохозяйственным работам, первым выгоном скота в поле. Праздник, связанный с проводами весны, принадлежит к сельским обрядам и сопровождается массо- выми гуляньями. В народной среде он называется люлё, полюлё, ярило, ярилы:
-
(32) Вот как вясна кончаццъ, дефки дъ парни рядюццъ, песни поют, празник этъ у нас, люлё (Большие Поляны, Ардатовский район).
Проводы весны празднуют в течение всей последней недели мая (по старому календарю), которую называют гулящая неделя :
-
(33) Фсю гулящую ниделю висну красну пръважали (Тенишево, Краснослободский район).
Весенний праздник кочеткú отмечается 22 мая, в этот день принято обливаться водой:
-
(34) Дваццъть фтаровъ мая па-новъму фсе вадой абливаюццъ. Этът празник у нас нъзываццъ къцытки (Мельцаны, Старошайговский район).
В диалектной среде посредством устойчивого сочетания сухой игриш также фиксируется народная забава: обливание на улице любого человека водой на следующий день после праздника – проводов весны.
Праздник последнего дня весны в исследуемых говорах получил название русалкино ( русальское ) загванье :
-
(35) Нъ русалкинъ загвънья в лес ходют, винки зъвивают (Дмитриев Усад, Атюрьевский район).
Данный фразеологизм употребляется и в шутливой форме, если речь идет о времени, которое наступит неизвестно когда:
-
(36) Сказала иму, штоп саломки принёс, дъ вить надеждъ-тъ нъ ниво плахая, дъ русалкина загвънья ждать придёццъ (Кулишейка, Рузаевский район).
Проводы лета и наступление осени, окончание летнего сезона – времени активного сельскохозяйственного труда, связанного с обработкой урожая, – означал такой сельский праздник, как федраська :
-
(37) Фидраськъ прайдёт, а там – осинь. Ванькъ, я нъ фидраську эх ы нъгуляюсь! (Старая Фёдоровка, Старошайговский район).
Осень в крестьянском календаре связана с уборочной страдой, сбором грибов, пополнением продовольственных запасов и под- готовкой к зиме. Завершается длительный период полевых работ, который начался ранней весной с возделывания участков и посева. Особое значение в крестьянской среде уделялось последнему дню жатвы, так как он ознаменовывал окончание тяжелых полевых работ. В этот день устраивался праздник дожинки в 1-м знач., пожинки – ‘последний день жатвы и праздник по этому поводу’:
-
(38) Раньшъ пажынки в радъсть были (Сиале-евская Пятина, Инсарский район);
-
(39) Как толькъ дажынки , то Матрёнкъ с утра петь ф поли нъчиналъ (Усыскино, Инсарский район).
По данным исследуемых говоров, был распространен обряд жечь серафóнку , это ритуальное действие обозначало символические проводы осени, когда молодежь делала чучело из соломы, одевала его в лохмотья и сжигала.
Среди народных праздников зимнего цикла отмечается череда предновогодних и последующих январских гуляний. Так, диалектные наименования овсень , усеньки , 2 усенька в 1-м знач. репрезентируют канун нового года, когда молодежь с песнями-колядками ходит по домам, получая подарки и угощение:
-
(40) Нъ усеньки блины пякут, рибятишки ра-кульку пают, а вечиръм салому жгут (Черемис, Ко-вылкинский район).
Наименования обрядов
В русских говорах на территории Республики Мордовия сохранились наименования различных обрядов, знаменовавших изменение социального статуса человека, переход его в иное состояние. Свадебный обряд является одним из самых ярких и красивых в традиционной русской культуре; он до сих пор хранит в себе архаические черты, восходящие к славянской древности, и характерные локальные признаки. Анализ свадебной лексики и фразеологии способствует пониманию специфических черт народного быта, особенностей взаимоотношений между представителями территориально замкнутого социума. Свадебный обряд был длительным по времени проведения, поэтому в нем можно выделить несколько основных этапов: предсвадебный, свадебный и послесвадебный.
До того как состоится свадьба, обязательным было знакомство родителей, получение их благословения. Первое знакомство родственников жениха и невесты называлось в сельской местности рукобúтье . Обряд знакомства жениха с невестой (смотрины), представленный лексемами 2 гляделки , поглядье , поглядки , собирал множество зрителей:
-
(41) Вывидут нъ глиделки , тут уш фсё и ри-шыццъ. Нъ глиделкъх многъ падрук събирёццъ (Новая Резеповка, Ковылкинский район).
Обычай, когда родственники невесты ходили к жениху, чтобы договориться о дне свадьбы, в диалектной среде номинируют устойчивые сочетания с лаптями ходить ( идти ), лапти давать . Решение сыграть свадьбу и объявление кого-либо женихом и невестой называли первый зной или поклон :
-
(42) Када замуш выходют, радня придёт нъ паклон (Шишкеево, Рузаевский район).
Устойчивое сочетание пойтú на поклóн , которое сопровождается в СРГРМ пометой устар ., обозначало в говорах такой обязательный процесс свадебного обряда, как пойти к родителям невесты за благословением. После состоявшегося сватовства устраивали запой , 1курник в 3-м знач., 2стоянку – собрание гостей у невесты:
-
(43) Ва время запоя дъгаваривъюццъ, кады свадьбу играть, етъ уш абычий такой (Усыскино, Инсарский район).
Кроме того, в исследуемых говорах зафиксированы фразеологические единицы поиграть вечёрку – ‘принять участие в свадебном обряде, вечеринке у невесты после сватовства’, пропивать ( пропить ) невесту – ‘устраивать (устроить) выпивку в ознаменование состоявшегося сватовства’ .
Особое значение уделялось сохранившейся с древнейших времен традиции, когда подруги невесты несут в дом жениха накануне свадьбы украшенную цветами ветку, – цветок нести (понести). Ритуальные действия украшения куста или ветки совершались участниками свадебного обряда заранее, как правило, накануне вечером, в говорах сохранились такие упоминания об этом процессе: наряжать репей – ‘украшать цветами и лентами куст репейника, который «продают» вместе с невестой’, куст рядить – ‘украшать лентами и цветами ветку дерева’.
Перед свадьбой соединялось имущество будущих молодоженов, поэтому существовал обряд носить ( понести ) рубашку , когда подруги невесты накануне свадьбы несли в дом жениха подарки от невесты:
-
(44) Насить рубашку ходют самыи блискии падруги нивесты. Пайду пъсматрю: к Марозъвым рубашку пънисли (Тепловка, Кочкуровский район).
В крестьянской среде нужно было идтú с мéркой в дом жениха, чтобы измерять окна и двери, а потом шить занавески. Принято было также родственникам или подругам невесты осматривать перед свадьбой имущество жениха – оглядывать колышки , смотреть печурки :
-
(45) У нас и щас абычий такой: пирит свадьбъй свахъ колышки аглядывът у жъниха (Гумны, Крас-нослободский район).
Предсвадебный этап предполагает прощание девушки с незамужней жизнью, поэтому зафиксированные наименования вечерён-ка , вечёрка , сваха , сёстра , вечеринка , вече-ренька , а также устойчивое сочетание ходить в подруги обозначают девичник в доме невесты накануне свадьбы. Вечер непосредственно перед свадьбой называется в изучаемых говорах позываты , так как на такие посиделки созывались друзья невесты и жениха. Средствами фразеологии репрезентируется такой элемент свадебного обряда, как мягчать перину : подруги невесты оставались ночевать у невесты накануне свадьбы:
-
(46) Вечиръм пришли падруги мякчять пи-рину (Ключарёво, Рузаевский район).
Обычай сопровождать свадебный обряд на всем протяжении плачем и причитаниями был распространен на Руси повсеместно. Н.Ю. Таратынова отмечает обязательное исполнение плачей-причитаний на свадьбе, так как «в момент традиционной свадьбы невеста как центральное действующее лицо всего обряда изменяла свой социальный статус и навсегда покидала родную семью, дом, а так- же резко меняла образ жизни, расставалась с подругами» [Таратынова, 2006, с. 312]. Проводы уходящей беззаботной жизни сопровождались плачем и причитаниями самой невесты, что подтверждает иллюстративный материал:
-
(47) Фсю вичиреньку нивестъ плачит и при-читат (Ирсеть, Старошайговский район).
Глагольные лексемы вызванивать , привоплять , вопить , корить (в одном из значений) выражают громкий плач невесты, сопровождающийся причитаниями. Устойчивые сочетания волюшку вопить , красу отдавать также указывают на обычай громко причитать перед свадьбой, оплакивая девичью волю:
-
(48) Невестъ пирет свадьбъй привоплят (Гри-боедово, Кочкуровский район).
Свадебный обряд на всем протяжении сопровождался также исполнением ритуальных песен, имеющих сакральный смысл. Так, фразеологическая единица шапочку петь указывает на исполнение песни жениху. В русских говорах Мордовии зафиксирован глагол корить , в одном из значений номинирующий обрядовый процесс восхваления пением. Хвалебная песня могла быть посвящена родителям, жениху или невесте:
-
(49) А патом жъниха карить начьнут (Алексеевка, Темниковский район);
-
(50) Мъладыи ищё радитилий карят (Стрелецкая Слобода, Рузаевский район).
В русских говорах Мордовии употребляются различные наименования, обозначающие вступление в брак: лексико-фонетические диалектизмы свальба , сварьба (в одном из значений) – ‘свадьба’, лексико-словообразовательные диалектизмы женатство , поже-нитьба – ‘женитьба’ . Лексема отпúрки называет последний день свадьбы. Наименования поезженина , поезжина в 1-м знач. характеризуют свадебный поезд. На совершение свадебного обряда указывает глагольная лексема курничать , устойчивое сочетание заиграть свадьбу обозначает завершение этого процесса – ‘сыграть свадьбу’.
Часть свадебного обряда представляла собой своеобразную торговлю, поскольку жениху или гостям необходимо было совершить выкуп, заплатить за что-либо. Для номинации подобных этапов обряда в говорах употребляются такие фразеологические единицы, как окупать ворота , откупать ( покупáть ) невесту – ‘родственники жениха выкупают невесту’, кладку драть – ‘выкупать приданое невесты’, козла окупать – ‘приглашенные на свадьбу платят за вино, выпитое из обвязанного красной лентой стакана’:
-
(51) Пъкупат нивесту друшкъ, а жыних токъ ръспърижаццъ, сколькъ дать. У нас фсягда нивесту пъкупают , а ищё пъкупают двери, местъ нивестинъ дъ туфильку иё (Петровка, Дубенский район).
Для обозначения получения выкупа за невесту в свадебном обряде употребляется диалектизм накорить . Со стороны невесты также были определенные обязательства, поэтому она приходила в семью жениха не с пустыми руками. Так, принято было везти коробью – ‘везти приданое невесты к жениху’, дарить на поклон – ‘невесте одаривать родных жениха’ . Диалектоносители отмечают, что с течением времени традиции одаривания могут меняться:
-
(52) Нъ паклон раньшъ был. А сичяс нивесту адаривъют, фсё нъабарот (Павловка, Старошайгов-ский район).
Приглашенные на свадьбу родственники и друзья дарили подарки молодым, этот этап свадебного обряда представляет устойчивое сочетание сыр метать :
-
(53) А таперь давайти сыр мятать для мъла-дых. Свахъ, чяшку, чяшку дай-къ суды, сыр мятать будим (Куликово, Тенгьгушевский район).
Диалектная фразеология номинирует различные ритуальные обрядовые действия, совершавшиеся в день свадьбы: в избе зажигали солому, а невеста с женихом должны были тушить огонь. Обряд овин тушить обозначал окончательный уход молодой жены из родительской семьи к мужу. Славянская традиция осыпать молодых хмелем после венчания – оку-пывать молодых – уходит корнями в далекое прошлое и символизирует пожелание молодым счастья и благоденствия.
В составе изучаемой диалектной фразеологии зафиксированы такие обрядовые действия, как поехать ( ехать ) с повесткой – ‘предупреждение невесты о скором прибытии жениха’, в горн ы звать – ‘приглашать родственников невесты в дом жениха в день свадьбы’, в горн ы ′ идтú ( пойтú , ходúть , приéхать ) – ‘идти (пойти) к жениху в день свадьбы (о родственниках невесты)’ . В русских деревнях было принято пировать, отмечая различные этапы свадебного обряда: пе-рег ′ улки – ‘взаимное угощение новых родственников после свадьбы’, м ′ ы ло возúть – ‘устраивать пирушку у родственников невесты спустя некоторое время после свадьбы’ . В диалектной среде проводы жениха и невесты в церковь называли второй запой , а пир у молодых после венчания – горнóй (в одном из значений), горн ′ ы (в одном из значений), горнáй :
-
(54) При горном бьют горшки, стаканы, толькъ пряч фсё. Мы вот смотрим нынишны свадьбы, горной уш режы стал, по-новъму играют (Манадыши, Атяшевский район).
В рамках послесвадебного этапа особое значение имел второй день после свадьбы. Рано утром идут ярку искать – искать невесту в доме жениха.
В этот день считалось обязательным на блинки звать , то есть приглашать в гости родственников жениха в дом родителей невесты, а родственникам жениха, соответственно, идти в дом родителей невесты – идти на блинки ( пирожки ). На второй день свадьбы из дома невесты к жениху несут украшенный лентами и цветами куст, ветку сосны. Данный элемент свадебного обряда в диалектной лингвокультуре представлен устойчивым сочетанием курник нести ( понести ), сосну нести :
-
(55) Сасну нясут ряжъны и гъварят жъниху: «Нашъ яркъ таке вот ленты насилъ». Носют сасну утръм, а патом гости жъниха идут гулять к нивести (Петровка, Дубенский район);
-
(56) Нъ фтарой день у нас курник нисут са-мыи блиски и радныи нивесты (Тепловка, Кочку-ровский район).
Похоронный обряд, как и свадебный, принадлежит к числу наиболее архаических и сохраняет многие черты традиционных воз- зрений человека на смерть. «Соблюдение такого важного обряда, каким является похороннопоминальный, строго контролировалось в традиционной русской деревне общественным мнением и этическими нормами, поэтому он долгое время оставался без изменений и до сих пор сохраняется во многих местах России» [Букринская, Кармакова 2013, с. 74]. В этнолингвистических исследованиях нередко отмечается общность свадебного и похоронного обрядов, что объясняется их «переходным» характером [Маслова, Мочалова 2013, с. 61].
Современный похоронный обряд сохраняет черты старого, еще языческого процесса, однако магическое содержание обрядового действа во многом утратилось. Это проявляется в том, что в диалектном корпусе русских говоров Мордовии представлено небольшое количество лексических и фразеологических единиц, номинирующих похороннопоминальные обряды.
Лексические единицы покорон , смертник обозначают похороны, фразеологизмы отнести за сторожёвых , сделать траур называют сам процесс – ‘схоронить, похоронить’. Наиболее многочисленна группа слов погребальнопоминального ритуала, связанных с номинацией поминок. Лексемы канун в 1-м знач., 1 пóш-лина в 1-м знач. имеют обобщенное значение ‘поминки’, в то время как большая часть языковых единиц содержит в своей смысловой структуре дифференциальные компоненты значения, конкретизирующие определенные временные отрезки: горячий стол в 1-м знач. – ‘поминки после похорон’, шестина – ‘поминки по умершему через шесть недель после смерти’, година – ‘поминки в годовщину смерти кого-либо’:
-
(57) Коли чъловек умрёт, об нём делъют поминки. Эти поминки нъзываюццъ горячым столом . Нъ горячый стол чыловек фсю жызню пръроботъл, поэтъму нъ горячый стол угошчают вином, тут не грех ы выпить, нъ другех поминкъх пить нельзя (Суподеевка, Ардатовский район).
Отдельные лексические единицы репрезентируют обрядовые комплексы, составляющие обязательную структуру погребальнопоминального ритуала в соответствии с православными традициями и имеющие сакраль- ное значение для верующего: панафида, канун в 4-м знач. – ‘церковная служба по умершему, панихида’, опевать – ‘совершать обряд отпевания’. Это подтверждает, что для человека важно, чтобы его похоронили с соблюдением обрядовых действий. Фразеологическая единица свалить на коноклёску – ‘похоронить без обряда’ – содержит пренебрежительный оттенок:
-
(58) Этъ у миня ф сундуке-ти смертнъй узил, в нём платья, покрой, а то пъпадёш ф пристарелый дом, кто чай тея там събирать-тъ будит. Покроют какем-нибуть савънъм дъ свалют път кънаклёску (Суподеевка, Ардатовский район).
В поминальные дни люди обязательно посещали могилы родственников, принося с собой еду, вино, чтобы пригласить усопшего на ритуальную трапезу. Фразеологизм завтрак на кладбище носить – ‘поминать’ – сохранил обычай, оставшийся от древнего похоронного обряда, который предусматривал задабривание душ умерших.
В православной традиции существовали специальные дни поминовения умерших – родители , поминуща . В такие дни в соответствии с обычами и обрядам поминального цикла требовалось проявление заботы об умерших в виде специальных молений, особых трапез, посещения могил:
-
(59) Сиводни радитили , на кладбища пайдём. Нъ радитили мы пъминаим умершых (Новое Бае-во, Большеигнатовский район).
Христианский обряд крещения кого-либо номинируют в исследуемых говорах единичные лексические единицы кстúны , кщéнье (в одном из значений). В этот день принято было собираться родственникам, готовить обрядовые угощения, дарить подарки:
-
(60) Бывалъчи у фсех кстины были, так уш зъвидяно былъ. Как кстины , так гулянкъ. И што зъ заправъ такая? (Гумны, Краснослободский район).
Заключение
Проведенное исследование показало, что диалектные наименования праздников и обрядов представляют сложный и уникальный компонент традиционной культуры, который зани- мает значительное место в лингвосознании русского народа. Наиболее многочисленными в говорах являются наименования, связанные со свадебными обрядами, а также номинации календарных религиозных и сезонных праздников. Обозначения похоронных и поминальных обрядов представлены небольшим количеством лексических и фразеологических единиц и репрезентируют обрядовые действия довольно обобщенно, практически не дифференцируя этапы совершения ритуала.
Таким образом, названия календарных праздников и народных обрядов в русских говорах отражают культурно-исторические традиции, верования, обычаи представителей территориально замкнутого социума, являются способами репрезентации этнокультурного сознания русского народа. Они представляют особую форму хранения и отражения национально-культурной информации, становятся основой для порождения символических значений в ценностносмысловом пространстве этноса.
Список литературы Диалектные наименования праздников и обрядов как отражение культурно-исторических традиций русского народа
- Акимова Э. Н., Маслова А. Ю., Мочалова Т. И., 2014. Этнолингвокультурологическая интерпретация бытовой и обрядовой фразеологии русских говоров Республики Мордовия // Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, лингвистики, языкознания и коммуникативисти-ки. В 3 т. Т. 1. Ростов н/Д : Науч. сотрудничество. С. 73-99.
- Байбурин А. К., 1993. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб. : Наука. 206 с.
- Банкова Т. Б., 1998. Словарь сибирских обрядов: к постановке проблемы // Проблемы лексикографии, мотивологии, дериватологии. Томск : Изд-во ТГУ С. 22-33.
- Бахвалова Т. В., 2015. Представление зимнего цикла календарных обрядов в орловских говорах // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». №2 3 (66). С. 87-89.
- Букринская И. А., Кармакова О. Е., 2013. Глаголы со значением «исполнять похоронный обрядовый плач» в русских говорах // Лексический атлас русских народных говоров : Материалы и исследования 2013. СПб. : Нестор-История. С. 74-83.
- Гайсина Ю. В., 2007. Свадебный обряд в селе Стояново // Тульская область. Одоевский край. Очерки прошлого и настоящего. М. : Ин-т наследия. С. 338-367.
- Гура А. В., 2012. Брак и свадьба в славянской народной культуре // Семантика и символика. М. : Индрик. 936 с.
- Житникова М. Л., 2006. Лексика свадебного обряда как источник изучения народной культуры // Язык и культура : сб. ст. XVIII Между-нар. науч. конф., посвящ. 10-летнему юбилею фак. иностр. яз. (Томск, 18-20 апр. 2005 г.). Том. гос. ун-та. Томск : Изд-во ТГУ С. 36-40.
- Зубова Ж. А., 2006. Отражение во фразеологии орловских говоров народных праздников, обрядов, обычаев и суеверий // Экология культуры и языка: проблемы и перспективы. Архангельск : Изд-во ПГУ С. 224-229.
- Костромичёва М. В., 2007. Лексика народного календаря // Лексический атлас русских народных говоров : Материалы и исследования 2007. СПб. : Наука. С. 351-356.
- Кузнецова И. В., 1999. Календарная обрядность и устойчивые сравнения // Коммуникативно-прагматические аспекты фразеологии : тез. докл. Междунар. конф. (Волгоград, 28-29 сент. 1999 г.). Волгоград : Перемена. С. 153-155.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А., 1971. О семиотическом аспекте культуры // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 284 : Труды по знаковым системам. С. 144-166.
- Маслова А. Ю., Мочалова Т. И., 2013. Этнолингвистическая репрезентация обрядовой деятельности во фразеологии русских говоров Республики Мордовия // Финно-угорский мир. № 2 (15). С. 59-63.
- Меркулова В. И., 1994. Календарная и обрядовая лексика, связанная с весенними христианскими праздниками в говорах Орловской области // Духовная культура: проблемы и тенденции развития : Всероссийская научная конференция (Сыктывкар, 11-14 мая 1994 г.) : тез. докл. Сыктывкар : Изд-во СГУ С. 72-75.
- Миронович М. С., 2012. Наименования участников свадебного обряда Калужской области // Лексический атлас русских народных говоров : Материалы и исследования 2012. СПб. : Нестор-История. С. 332-337.
- Мочалова Т. И., Маслова А. Ю., 2014. Репрезентация языческого и христианского мировоззрения во фразеологии русских говоров Республики Мордовия // Русский язык: исторические судьбы и современность : тр. и материалы V Междунар. конгр. исследователей рус. яз. (Москва, 18-21 марта 2014 г.). М. : Изд-во МГУ С. 123-124.
- Таратынова Н. Ю., 2006. К вопросу о номинации обрядового свадебного причитания (по материалам псковских говоров) // Лексический атлас русских народных говоров : Материалы и исследования 2006. СПб. : Наука. С. 309-314.
- Тихомирова Н. П., 2008. Лексика календарных обрядов в белозерских говорах // Лексический атлас русских народных говоров : Материалы и исследования 2008. СПб. : Наука. С. 241-247.
- Фомичева С. В., 2012. Символика предметного кода свадебного обряда (на материале тульских говоров) // Лексический атлас русских народных говоров : Материалы и исследования 2012. СПб. : Нестор-История. С. 326-331.
- Человек и его мир в диалектной фразеологии русских говоров Мордовии / Э. Н. Акимова, А. Ю. Маслова, Т. И. Мочалова [и др.]. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. 156 с.
- Чухарева Г. В., 1978. Из наблюдений над лексикой и фразеологией свадебных обрядов нескольких сел Курганского района Красноярского края // Вопросы исследования лексики и фразеологии Сибирских говоров. Красноярск : Изд-во КГУ С. 21-27.
- Штейнгарт Л. М., 2006. Особенности репрезентации языковой картины мира российских немцев (на материале пословиц и поговорок) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Иркутск. 22 с.
- СРГРМ - Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия. В 2 ч. / Ин-т лингв. исслед. РАН. СПб. : Наука, 2013. Ч. 1. 672 с. Ч. 2. С. 673-1560.