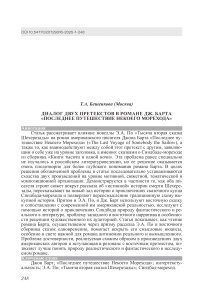Диалог двух претекстов в романе Дж. Барта «Последнее путешествие некоего морехода»
Автор: Бешенкова Т.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья рассматривает влияние новеллы Э.А. По «Тысяча вторая сказка Шехерезады» на роман американского писателя Джона Барта «Последнее путешествие Некоего Морехода» («The Last Voyage of Somebody the Sailor»), а также то, как взаимодействуют между собой этот претекст с другим, заявляющим о себе уже на уровне заголовка, а именно: сказками о Синдбаде мореходе из сборника «Книги тысячи и одной ночи». Эта проблема ранее специально не изучалось в российском литературоведении, но ее решение оказывается очень плодотворно для более глубокого понимания романа Барта. В целях решения обозначенной проблемы в статье последовательно устанавливаются сходства двух произведений на уровне мотивной, сюжетной, тематической и композиционной организации. Демонстрируется в частности то, как оба писателя строят сюжет вокруг рассказа об «истинной» истории смерти Шехерезады, пересказывают на новый лад истории о приключениях сказочного купца Синдбада морехода и подвергают переосмыслению традиционную схему выкупной истории. Притом и Э.А. По, и Дж. Барт используют восточную сказку в сопоставлении с современной им американской реальностью, исследуют с помощью историй о приключениях Синдбада природу фантастического и реального в литературе, проблему западного и восточного нарратива и особенности рецепции художественного их аудиторией. Статья показывает, как чтение романа Барта, осуществляемое через призму рассказа Э.А. По и восточного сборника сказок одновременно, помогает вскрыть его смысловые нюансы, особенно в свете важной для романа антиномии реального и вымышленного. Проблема достоверности, реализуемая схожим образом в произведениях двух американских авторов и вступающая в резонанс с восточным претекстом, позволяет лучше понять природу реалистического и фантастического в исследуемом романе.
Джон барт, «последнее путешествие некоего морехода», интертекстуальность, э.а. по, «тысяча вторая сказка шехерезады», синдбад мореход
Короткий адрес: https://sciup.org/149147781
IDR: 149147781 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-248
Текст научной статьи Диалог двух претекстов в романе Дж. Барта «Последнее путешествие некоего морехода»
John Barth; “The Last Voyage of Somebody the Sailor”; E.A. Poe; The Thou-sand-and-Second Tale of Scheherazade; intertextuality; Sindbad the Sailor.
Роман американского писателя Джона Барта «Последнее путешествие Некоего Морехода» («The Last Voyage of Somebody the Sailor», 1990) не переводился на русский язык и остается практически не исследованным в отечественном литературоведении. В России имя Барта в первую очередь связано с так называемой школой черного юмора [Зверев 1979], а наиболее изученными остаются ранние работы автора, такие как «Химера» (1972) или «Заблудившись в комнате смеха» (1968). Будучи романом уже зрелого автора, «Последнее путешествие…» вбирает в себя многие присущие прозе Барта темы, сюжеты и приемы. Среди них особенно следует отметить обращение к персонажам сказок «Тысячи и одной ночи», композицию романа, построенную по принципу вставных новелл, а также установку на игру и цитатность, в целом характерную для творчества Барта. Так, «Химера» построена на переосмыслении историй Дуньязады, Персея и Беллерофона, «Торговец дурманом» вступает в диалог с одноименной поэмой Эбенезера Кука, а «Козлоюношу Джайлза» невозможно понять без обращения к «Тысячеликому герою» Дж. Кэмпбелла.
Система реминисценций и аллюзий занимает важное место и в рассматриваемом романе. Отсылка к основному претексту этого произведения – повествованию о приключениях Синдбада-морехода – содержится уже в заголовке (учитывая в том числе и фонетическую близость имени Синдбад и английского слова «Некто» – “Somebody”) и неизменно привлекает внимание исследователей как в России, так и за рубежом [Tobin 1992; Тарнаруцкая 2008].
Однако значение другого важного для романа источника – новеллы Эдгара Аллана По «Тысяча вторая ночь Шехерезады» («The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade» , 1845) – было изучено в меньшей степени [Волков 2006]. В данной статье будет исследовано влияние новеллы Э.А. По на «Последнее путешествие...», а также то, как оно сочетается с влиянием основного восточного претекста романа, т.е. собственно сказок о Синдбаде.
Американский литературовед С. Скотт назвал «Тысяча вторую ночь Ше-херезады» вторым, но, возможно, даже более значимым («even more pertinent») претекстом романа [Scott 1995, 151]. Такое сравнение двух претекстов представляется нам проблематичным ввиду различных функций, исполняемых ими в романе, однако, вероятно, здесь под «более значимым» исследователь понимает то особенное место, которое занимает «Тысяча вторая сказка Шехереза-ды» в мире «Последнего путешествия», так как роман Барта во многом идет «по следам» новеллы. В обоих произведениях восточная сказка о Синдбаде вступает в диалог с современной авторам реальностью США, задавая таким образом ось противопоставления по шкалам «Запад – Восток», «вымысел – реальность». Как будет показано далее, рассматриваемые произведения роднит не только формальное совпадение тем и сюжетов, но и их близкая трактовка.
В центре обоих произведений, как романа, так и новеллы, – «правдивая» (в противовес финалу восточного сборника сказок) история о смерти Шехе-резады. У Барта постаревшая и пережившая мужа Шехерезада (повествователь второго уровня в многоуровневом каскаде историй) снова рассказывает выкупную историю, но на этот раз не для того, чтобы спасти свою жизнь, а затем, чтобы наконец умереть. Ее аудитория – сама Смерть, а задача – рассказать Смерти такую историю, которую та раньше не слышала. Этой выкупной историей оказывается занимающее почти весь объем текста повествование о том, как в дом Синдбада-морехода попадает американский журналист Саймон Белер (Некий Мореход, заглавный Somebody the Sailor). Притом можно предположить, что Шехерезада в конце романа, как и в конце новеллы Эдгара По, умирает: «Из ее отсутствия в обрамлении моей истории, – завершает ее повествователь, – мы можем сделать вывод, что старая Шехерезада достигла конца своего повествования. Так?» (“From her absence in my story’s wrap-up, its narrator concludes, we may infer that old Scheherazade achieved her narrative end. Okay?”, – здесь и далее перевод фрагментов из романа Барта мой – Т.Б. ) [Barth 1991, 573].
Таким образом, фактически весь текст романа у Барта оказывается приписан Шехерезаде. С. Скотт указывает на то, что здесь явно прослеживается влияние Э.А. По, потому что аналогичным образом и он приписывает сказочной Шехерезаде свою собственную новеллу о черной кошке, которой, согласно «Тысяче второй сказке Шехерезады», начинается длинная цепь ее историй. В новелле По Шехерезада рассказывает в первую ночь «захватывающую историю (если не ошибаюсь, речь там шла о крысе и черной кошке)» [По 1970, 598]. Исследователь считает, что упоминаемая здесь история Шехерезады становится версией новеллы Э.А. По «Черный кот» (1843), основная проблематика которой связана с проницаемостью границ реального и вымышленного [Scott 1995, 153], что сближает новеллу с обоими произведениями, о которых идет речь.
Сходство обнаруживается и в переосмыслении темы выкупной истории, которая имеет место в обоих произведениях. Действие новеллы Э.А. По происходит на тысячу вторую ночь, когда Шехерезада уже закончила рассказывать выкупные истории, ее жизнь, как и судьба ее страны, спасена, и теперь она рассказывает сказку ради собственного удовольствия, а не из необходимости. Перед тем как начать свой рассказ, легендарная сказительница говорит сестре Дуньязаде: «Теперь, когда неприятный вопрос с петлей решен, а ненавистная подать, к счастью, отменена, я испытываю чувство вины, потому что утаила от тебя и царя <…> окончание истории Синдбада-морехода» [По 1970, 589]. Эти истории – довольно правдивый, с точки зрения соответствия фактам, но поданный в «остраненном» (в терминологии В.Б. Шкловского) духе рассказ о современной автору Америке, ее технических достижениях и природных богатствах. Однако Шахрияр, внимавший фантастическим сказкам на протяжении тысячи и одной ночи, отказывается верить тому, что кажется вполне реалистическим с точки зрения читателя. «Враки!», «Вздор!», «Чепуха!», «Бредни!», – комментирует шах рассказ супруги [По 1970, 596–597] и в конечном итоге отдает приказ о ее казни.
Взаимное смещение и смешение «реального» и фантастического – одна из основных тем как в рассказе, так и в романе [Волков 2006; Scott, 1995]. Притом на полюсе «реального» может быть как соответствующее фактам, как в «Тысяче второй сказке Шехерезады», так и «реалистическое», как у Барта. В эпиграф новеллы По вынесена пословица: «Правда всякой выдумки странней», а в тексте описание реальных вещей (например, инкубатора) воспринимается как фантастическое. У Барта первые рассказы главного героя о его детстве и юности, поданные в исключительно реалистической манере, включают в себя такие бытовые детали, как часы, самолеты, воспринимаемые багдадскими слушателями как неправдоподобные. На противоположном полюсе, в сфере фантастического – сказки из книги «Тысячи и одной ночи», а точнее, истории о приключениях Синдбада-морехода, с материалом которых работают оба произведения. У Э.А. По Шехерезада рассказывает о «завершении путешествий Синдбада», вероятно, добавляя к ним восьмое, неканоническое странствие. Барт, как и Э.А. По, также формально сосредотачивает свое внимание на последнем странствии купца. Однако если у По в путь отправляется Синдбад, то у Барта в центре сюжета оказывается жизнь и странствия другого Синдбада, ближайшим прототипом которого в восточном претексте можно назвать Синдбада-носильщика, тезку купца, багдадского нищего, которого богач приглашает к столу и которому рассказывает о своих небывалых приключениях.
В обеих версиях завершения истории о знаменитом багдадском купце его жизнь и приключения показаны в непривычном ракурсе. И в новелле, и в романе особенное место занимает проблема достоверности и восприятия повествования фиктивными слушателями. В самом начале истории Синдбада у Эдгара Аллана По персонаж средневековой сказки попадает на борт современного лайнера. Примечательно, что Синдбад у Э.А. По и Некто у Барта совершают как бы зеркальные путешествия в литературном времени и пространстве: первый из «сказки» попадает в «реальный мир» Америки, второй из современной его автору Америки переносится в сказочный мир. Оба путешественника изучают язык, на котором говорят их новые попутчики (интересно, что в обоих произведениях схоже преподносится сумятица непонятной иностранной речи: у По это язык кок-неев (Cock-neighs), у Барта – opp-talk, на котором, в частности, общаются захватившие корабль путешественника обезьяны). Оба героя становятся помощниками на борту в новых для себя мирах. Так два путешествия во времени взаимно отражаются друг в друге, противопоставляя и одновременно сближая реальное и сказочное, восточное и западное.
«Стандартный» сюжет приключения Синдбада строится по своеобразной формуле. Вот как ее пересказывает Джон Барт [Barth 1991, 11–12]: Синдбад отправляется из Багдада в Басру и садится на корабль вместе с другими купцами, капитан корабля теряет курс, случается шторм, Синдбад попадает на необитаемый остров «вместе с горсткой купцов, следующая сюжетная задача которых – умереть и оставить его единственным выжившим». Далее Синдбад перебирается на второй остров (или другую часть острова), где часто реализуется сюжет с царским фаворитом (King’s-Favorite scenario), затем следуют обретение богатства и благополучное возвращение на родину.
На первый взгляд кажется, что Шехерезада в новелле По начинает свое повествование в рамках этого канона. Описание корабля в «Тысяча второй сказке Шехерезады» как чудовища безо рта с восемьюдесятью глазами вписывается в формулу и, что примечательно, этот рассказ не вызывает у халифа недоверия. Напротив, это один из двух случаев, когда он реагирует на историю супруги в положительном ключе: «Поистине, весьма удивительно, дорогая царица, что ты опустила эти последние приключения Синдбада. Я, знаешь ли, нахожу их крайне занимательными и необычайными» [По 1970, 592]. Однако принципиальное отличие историй Шехерезады у По (или Белера у Барта) от классических приключений Синдбада-морехода – отсутствие ярко выраженной приключенческой компоненты. Начав свой рассказ с обещания приключения, сказительница отклоняется от заданной формулы и переходит к зарисовкам заморских чудес, описанию счетной машины Бэббиджа, телеграфа, полета на воздушном шаре. Такого рода рассказы содержатся и в восточном претексте: это не только приключенческие повествования, но и описания природных чудес, которые видел Синдбад на обратном пути в Басру. Например, в завершении рассказа о своем третьем путешествии Синдбад говорит: «<...> среди того, что я видел в этом море, была рыба в виде коровы и нечто в виде осла, и видел я птиц, которые выходят из морских раковин и кладут яйца и выводят птенцов на поверхности воды, никогда не выходя из моря на землю» [Тысяча и одна ночь 1959a, 299] (см. аналогичное описание в пятом путешествии [Тысяча и одна ночь 1959a, 323–324]).
Но если в историях Синдбада в «Тысяче и одной ночи» такие небывалые, но лишенные приключенческой основы зарисовки занимают место только в финале некоторых путешествий, то у Барта, как и у По, они становятся основой повествования. Как и Шахрияр в рассказе «Тысяча вторая сказка Шехерезады», аудитория Некоего Морехода у Барта не верит его лишенным приключенческого начала рассказам о детстве и юности, проведенных в Восточном Дорсете (США). Один из наиболее часто цитируемых фрагментов романа – замечания слушателей американского Синдбада об «исламском реализме». Так, Ибн аль-Хамра, гость Синдбада, отмечает, что в рассказах гостя ему не хватает того, что он обычно ждет от историй: «высоких стандартов исламского реализма». Он говорит: «<...> дайте мне знакомые, осязаемые вещи: птиц рух и носорогов, ифритов и ковры-самолеты, все то, что мы впитали с материнским молоком. И пусть никакой чужеземец не думает, что такие безумные выдумки, как механизмы, измеряющие время или самостоятельно катящиеся по дороге, когда-нибудь займут место нашего родного исламского реализма» ( “<...> high ground of traditional realism <…> give me familiar, substantial stuff: rocs and rhinoceri, ifrits and genies and flying carpets, such as we all drunk in with our mother’s milk <…> Let no outlander imagine that such crazed fabrications as machines that mark the hour or roll themselves down the road will ever take the place of our homely Islamic realism <...>”) [Barth 1991, 136].
Гости Синдбада в романе не верят рассказам Некоего Морехода, включающим в себя такие «чудеса», как самолеты, машины, часы; так и Шахрияр в рассказе По не верит ни природным, ни технологическим «чудесам». Шахрияр отвергает вычислительную машину Бэббиджа («за секунду <...> производит вычисления, требующие труда пятидесяти тысяч человек в течение целого года»), воздушный шар («У этой страшной птицы не было видно головы, а только одно брюхо, удивительно толстое и круглое, из чего-то мягкого, гладкого, блестящего, в разноцветные полосы») и проч. Аудитория верит не тому, что, как очевидно для читателей новеллы и романа, является фактом, а тому, что соответствует ее представлениям о «реалистическом» литературном каноне. Интересно, что во второй раз Шахрияр поверит супруге, когда она будет описывать покоящийся на корове остров: «Тотчас же после этого приключения мы достигли материка, который, несмотря на свою огромную протяженность и плотность, целиком покоился на спине небесно-голубой коровы, имевшей не менее четырехсот рогов». Этому Шахрияр верит, «ибо читал нечто подобное в книге». В примечании Э.А. По к новелле сказано, что книга, на которую ссылается Шахрияр – Коран, согласно которому земля покоится на голубой корове, но это не так. Сура «Корова» (аль-Бакара) – вторая и самая длинная сура Корана, но ни в ней, ни в других сурах ничего подобного не утверждается. Тем не менее, в мире новеллы слушатель верит только тому, что уже есть в его культурном опыте.
Аудитория Некоего Морехода у Барта также более благосклонно принимает некоторые из его рассказов, в особенности их привлекает история о том, как, попав на рынок в своем «реальном» мире, Некто оказывается на средневековой рыночной площади. Согласно общему мнению его критиков, этот эпизод «на голову и тюрбан» выше всего того, о чем он рассказывал прежде [Barth 1991, 248]. Разумеется, это неверие фактическому и вера в сказочное во многом ироничны, но в контексте романа они приобретают более полное звучание, как бы напоминающее о том, что любой нарратив, будь то «реалистический» рассказ о детстве в Дорсете середины ХХ в. или история о полете на гигантской птице Рух, в одинаковой мере принадлежат миру воображения, миру литературного творчества.
Истории Синдбада-Некоего из романа Барта в основном «реалистичны» (фантастические вкрапления впервые появляются в третьем путешествии, и затем, к заключительным путешествиям, их роль возрастает). Вплоть до того момента, когда миры сказочного Востока и американской повседневности начинают переплетаться и граница между ними стирается, он рассказывает о детстве, юности, взрослении и несчастливом браке, но его аудитории непонятны ни то, что мы бы назвали «психологизмом», ни мотивация поступков персонажей. В ходе третьего путешествия Белера едва не убивает собственная жена (ревность, кризис семейных ценностей). Однако слушателям на пиру у Синдбада настолько непонятно поведение героини, что им проще объяснить его себе как иносказательное переосмысление сказочного сюжета, рассказанного прежде Синдбадом: «Что касается неясных эпизодов этой истории и необъяснимого поведения ее главных героев, я полагаю, что они призваны перекликаться с речью и поведением страшных, но изобретательных обезьян из рассказа саида Синдбада: непонятных для нас, но не лишенных смысла» (“As for the obscure stretches of this one and the inexplicable behavior of its principal characters, I believe they are meant to echo the speech and behavior of the fearsome but ingenious apes in Sayyid Sindbad’s story: unintelligible to us but not therefore meaningless”) [Barth 1991, 249]. Самым же «правдоподобным» событием этого рассказа слушатели Белера признают упомянутый выше эпизод на рыночной площади. Аудитория Синдбада-Некоего в романе Барта не верит его рассказам, несмотря на то (точнее, отчасти именно потому) что они «реалистичны», аудитория Шехерезады у По не верит ее истории, несмотря на то что она говорит о фактах.
Недоверие к повествователю оборачивается катастрофой в рассказе Э.А. По тогда, когда Шехерезада доходит до рассказов о женской моде: «“<...> Турнюра, – сказала Шехерезада. Один из злобных джиннов, вечно готовых творить зло, внушил этим изысканным дамам, будто то, что мы зовем телесной красотой, целиком помещается в некоей части тела, расположенной пониже спины. Идеал красоты, как они считают, прямо зависит от величины этой выпуклости; так как они вообразили это уже давно, а подушки в тех краях дешевы, там не помнят времен, когда можно было отличить женщину от дромадера...” – Довольно! – сказал царь. – Я не желаю больше слушать и не стану» [По 1970, 599]. Такого рода повествование столь возмущает Шахрияра, что он отдает приказ о казни супруги. Финал романа Барта также отмечен нарушением границ дозволенного в повествовании.
В романе Барта, однако, катастрофа случается не с рассказчиком – Синд-бадом-Неким, а с его визави, «изначальным» Синдбадом-мореходом. Их нарративы, постепенно движущиеся к общей гавани, с пятого путешествия начинают сближаться: Белер уходит от автобиографизма к фантастическому рассказу и сам переходит в мир сказки, а сквозь рассказы Синдбада-морехода начинает проглядывать неприглядная правда – его пиратство, разбой, ложь о собственных подвигах и, наконец, сексуальное преступление против собственной дочери и попытка убийства приемного сына. Согласно мнению самого Джона Барта, высказанному им, в частности, в «Химере», «некоторые вымыслы <…> настолько ценнее фактов, что в исключительные, драгоценные моменты их красота обращала их в реальность» [Барт 2012, 29]. Это заявление, почти программное для писателя, резонирует с историей о величайшей сказительнице, ставшей жертвой реализма, и с рассказом о писателе Белере, обретшем свободу в сказке.
Отдельно следует сказать несколько слов о композиции произведений, к которой мы уже косвенно обращались ранее. И роман, и новелла реализуют рамочное повествование, которое, безусловно, отсылает к восточному оригиналу. Включение истории о смерти Шехерезады в сложную систему обрамлений у Барта – это дань как тематике («Тысяча и одна ночь» – едва ли не самое известное произведение с обрамлением), так и одному из излюбленных композиционных приемов Барта. У Эдгара По рамочная структура существует тоже: рамочный нарратор ссылается на выдуманную По книгу «Таклинетли» (“Tellmenow Isitsoornot”), которую затем и «пересказывает» якобы дословно («здесь я verbatim цитирую “Таклинетли”») [По 1970, 589]. Следующий уровень нарративного каскада составляет история тысяча второй ночи Шехереза-ды – история, которая, в свою очередь, обрамляет рассказанную Шехерезадой историю Синдбада («таковы были слова Синдбада, переданные Шехереза-дой»).
Особенность рамочной структуры в рассматриваемых произведениях состоит в переосмыслении ее значения. Во-первых, переосмыслению подвергается само понятие выкупной истории. Традиционно рассказчик выкупной истории пытается отсрочить смерть или буквально выкупить свою жизнь
(например, с первой по третью ночь Шехерезада из «Книги тысячи и одной ночи» развлекает Шахрияра историей о купце и духе, в которой рассказчики выкупают по трети крови обреченного) [Тысяча и одна ночь 1959b, 22–36]. В романе Барта Шехерезада выкупает не жизнь, а смерть у самого Разрушителя Наслаждений (персонификации Смерти). Повествователь первого уровня (старик Белер) тоже фактически рассказывает своеобразную выкупную историю. В случае с Белером рассказывание историй – это способ обрести самого себя и восстановить свою целостность через воссоединение с утраченным близнецом. Он также «выкупает» нарративом собственное душевное здоровье, когда через фигуру Синдбада-морехода реализует подавленное инцестуозное желание и последующее наказание за него.
Во-вторых, рамочная структура как в новелле, так и в романе принципиально условна. Фигура повествователя и его голос всегда присутствуют в тексте, несмотря на множественные нарративные уровни. Например, в самом начале истории Шехерезада отмечает, что ее муж храпит, «чего не позволил бы себе ни один джентльмен» [По 1970, 589]. Аналогичным образом нарратор заявляет о своем присутствии в тексте: реалии Востока наполняют американский план истории (пачка сигарет «Кемел», контрацептивы «Шейх»), особенности высказывания, очевидно принадлежащие другому голосу, проникают в речь персонажей (средневековый паж Салим из сказочного плана выражает свою растерянность на обсценном английском [Barth 1991, 144]).
Рассматриваемые произведения сближаются на уровне формальной организации (рамочная структура, несколько повествователей различных уровней), сюжета (истории об «истинной» смерти Шехерезады), тематики (переосмысление историй о путешествиях Синдбада-морехода) и системы мотивов (Восток и Запад, достоверное и вымышленное). Роман и новелла стремятся переосмыслить диктуемые обычным опытом представления о достоверном и вымышленном. Чтение «Последнего путешествия Некоего Морехода» через призму рассказа Э.А. По акцентирует размытость границ между «реальным» и «фантастическим» в художественной литературе, а сопоставление с путешествиями Синдбада-морехода из классического восточного сборника сказок усиливает этот контраст. Совпадение читательского опыта фиктивных слушателей в обоих произведениях создает парадоксальный эффект: сказочный Восток становится оплотом реального, а реалистический американский Запад – вместилищем сказочного. Нарушение границ, их эфемерность акцентируют условность «реалистичного», а сюжет, сопоставленный с новеллой Э.А. По, демонстрирует катастрофические, с точки зрения Барта, последствия приверженности к сугубому реализму. «Есть истины, к которым можно прийти только окольным путем» (“Not that Sindbad the Sailor has spoke falsely of his fifth voyage, but by his own acknowledgment there are truths that must be approached as one approaches Serendib: by indirection”) [Barth 1991, 394], – утверждается в «Последнем путешествии...». В романе наказание приходит к Синдбаду-мореходу тогда, когда его повествования приходят к буквальному толкованию, а спасение Белера, его искупление и обретение им истинного «я» и утраченной идентичности оказываются достижимыми только в мире фантастического.
Список литературы Диалог двух претекстов в романе Дж. Барта «Последнее путешествие некоего морехода»
- Барт Дж. Химера: Роман / пер. с англ. В. Лапицкого. СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2012. 352 с.
- Волков И.В. Лабиринты Джона Барта: интертекстуальность, пародия. М.: Кредо, 2006. 199 c.
- Зверев А.М. Модернизм в литературе США: Формирование, эволюция, кризис. М.: Наука, 1979. 318 с.
- По Э.А. Тысяча вторая сказка Шехерезады / пер. З. Е. Александрова // Полное собрание рассказов / отв. ред. А.А. Елистратова. М.: Наука, 1970. С. 587-599.
- Тарнаруцкая Е.П. Проблема границы в постмодернистском романе: на материале романов Джона Барта: дисс. … к. филол. н.: 10.01.08 2008. Самара, 2008. 298 с. EDN: NQGXNN
- (a) Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи: в 8 т. / пер. с араб. М.А. Салье. М.: Гослитиздат, 1958-1960. Т. 5: Ночи 434-606. Т. 5. 1959. 470 с.
- (b) Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи: в 8 т. / пер. с араб. М.А. Салье. М.: Гослитиздат, 1958-1960. Т. 1: Ночи 1-38. Т. 1. 1959. 381 с.
- Barth J. The last voyage of somebody the sailor. New York: Anchor books Doubleday, 1991. 575 p.
- Scott S.D. When authors play: the gamefulness of American postmodernism. PhD Thesis. Canada, 1995. 298 p.
- Tobin P.D. John Barth and the anxiety of continuance. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992. 208 p.