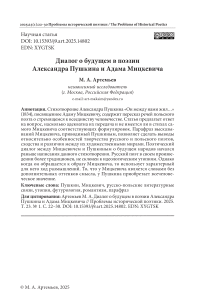Диалог о будущем в поэзии Александра Пушкина и Адама Мицкевича
Автор: Артемьев М.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Стихотворение Александра Пушкина «Он между нами жил…» (1834), посвященное Адаму Мицкевичу, содержит пересказ речей польского поэта о стремящемся к всеединству человечестве. Статья предлагает ответ на вопрос, насколько адекватна их передача и не имеется ли в стихах самого Мицкевича соответствующих формулировок. Парафраз высказываний Мицкевича, приводимый Пушкиным, позволяет сделать выводы относительно особенностей творчества русского и польского поэтов, сходства и различий между их художественными мирами. Поэтический диалог между Мицкевичем и Пушкиным о будущем народов начался раньше написания данного стихотворения. Русский поэт в своем произведении более традиционен, не склонен к идеологическим утопиям. Однако когда он обращается к образу Мицкевича, то использует характерный для него ход размышлений. То, что у Мицкевича является словами без дополнительных оттенков смысла, у Пушкина приобретает всечеловеческое значение.
Пушкин, мицкевич, русско-польские литературные связи, утопия, футурология, романтизм, парафраз
Короткий адрес: https://sciup.org/147247808
IDR: 147247808 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.14802
Текст научной статьи Диалог о будущем в поэзии Александра Пушкина и Адама Мицкевича
О дними из наиболее цитируемых строк Александра Пушкина являются слова: «Когда народы, распри позабыв, / В великую семью соединятся». Они взяты из стихотворения «Он между нами жил…» (1834), посвященного Адаму Мицкевичу (см. об истории создания этого стихотворения: [Цявловский]). Образ сливающихся воедино народов представлен у Пушкина как пересказ слов Мицкевича:
«…Нередко
Он говорил о временах грядущих. Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта» [Пушкин: 259].
М. П. Алексеев задавался вопросами: «Нельзя ли эти строки истолковать как конкретное указание на беседы Мицкевича в кругу его русских друзей на темы о социально-утопических доктринах? <…> Не следует ли, однако, пойти дальше и предположить, что Пушкину был известен и замысел "Истории будущего" Мицкевича?» [Алексеев, 1972: 130].
«История будущего» (“Historia przyszłości”, фр. “L’histoire d’avenir”) — это не дошедший до нас научно-фантастический и утопический роман Адама Мицкевича на французском языке. Первая версия была написана в Санкт-Петербурге в 1829 г. Всего же известно о семи версиях произведения, рукописи которых последовательно уничтожались автором ([Алексеев, 1959], [Skwarczyńska]). Представляется, что строка «Он говорил о временах грядущих» недвусмысленно отсылает к «Истории будущего».
Но нас интересует не сам факт возможного знакомства русского поэта с необычным творческим замыслом поэта польского, а конкретный образный ряд. Пересказывает ли Пушкин приблизительно содержание разговоров Мицкевича или довольно точно его цитирует?
В 1830 г., «по дороге в Геную», как следует из его собственного примечания, Адам Мицкевич написал стихотворение «К матери-полячке» (“Do matki Polki”), отражающее его взгляд на перспективы польского освободительного движения. Напомним, что годом ранее, в мае 1829-го, он покинул Санкт-Петербург, переехав в Европу навсегда. В этом произведении поэт передавал настроение, характерное для него в период, когда он встречался с Александром Пушкиным. В его четвертой строфе имеются следующие строки:
“Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały, Choć się sprzymierzą rządy, ludy, zdania…”1.
Стихотворение известно в поэтическом переводе на русский язык Михаила Михайлова (1829–1865) под названием «К польке-матери». В нем эти строки звучат так:
«И если б целый мир расцвел в покое, Всё примирилось — люди, веры, мненья »
(курсив мой. — М. А .)2.
Однако дословный перевод точнее передает значение использованных польским поэтом слов:
«Ибо пусть в спокойствии целый мир будет цвести, Пусть объединятся правительства, народы, мысли …»3.
В 1829 г. Мицкевич опубликовал касыду «Аль-Мутанабби» (“Almotenabbi”), где герой высказывается:
“Niesprawiedliwość ludzkie rozdziela plemiona, Chociaż wyszliśmy wszyscy z jednej matki łona”4.
«Неправда враждой разделила людей племена, Хоть общая мать всему роду людскому дана» (поэтический перевод В. Г. Бенедиктова)5.
«Человеческая несправедливость разделила племена, Хотя вышли мы все из чрева одной матери» (дословный перевод мой. — М. А. ).
Таким образом, в 1829–1830 гг. Адам Мицкевич не только размышлял о написании «Истории будущего» (и делился замыслом с друзьями и знакомыми, среди которых был и Пушкин), но и создавал поэтические произведения, в которых как минимум дважды встречается упоминание о разделении народов, а также о том, что в будущем они могут объединиться.
Можно предположить, что важный для Мицкевича образ разделенного, но стремящегося к всеединству человечества он вполне мог обсуждать во время бесед с литераторами и поклонниками в петербургских салонах6, где этот разговор мог услышать Пушкин (равно как и в чьем-то пересказе) и использовать данный образ спустя несколько лет в стихотворении. Русский автор в строках «Когда народы, распри позабыв, / В великую семью соединятся» мог иметь в виду реплику польского коллеги, запечатлев одну из наиболее актуальных для того идей. Таким образом, фигура устной речи зажила независимой жизнью в поэзии Пушкина.
Со стихотворением «К матери-полячке», опубликованным только в 1833 г. во Львове нелегально (см. об этом: [Inglot]), русский поэт, судя по всему, был незнаком. Речь может идти только о непосредственном воздействии разговора Мицкевича — может быть, даже одной из его импровизаций, которыми польский автор славился.
Пушкин выразительно заострил пафос Мицкевича, и в русской поэзии его слова приобрели особенно впечатляющее звучание и значение. При этом в польской культуре строка: «Пусть объединятся правительства, народы, мысли…» — крылатой фразой не стала, хотя порой и цитируется (например, в газетной публицистике), но требуя при этом пояснения, откуда взяты эти слова7. Отметим, что для Мицкевича подобное перечисление с усилением, нарастанием значимости объекта является привычным приемом:
“I tak rozmawiać, godziny, dni, lata, Do końca świata i po końcu świata”8. «И так говорить часы, дни, годы, До конца света и после конца света»9.
( Стихотворение « Разговор »);
“Zyj dla sług, przyjaciół, żony, Lata, wieki, nieśmiertelność”10.
«Живи для слуг, друзей, жены, / Годы, века, вечность». ( Баллада « Тукай »);
“Widzieć tę gwiazdę społem i zbliska i zawsze!”11.
«Видеть ту звезду вместе, рядом и всегда!» ( Стихотворение « Незнакомой сестре моей приятельницы »).
Пушкин удаляет «правительства» и «мысли» (последнее слово можно перевести как «представления», «мнения», «убеждения»), говоря об одних только народах, но вводит впечатляющий образ «великой семьи».
Пушкину как автору был чужд подход Мицкевича к истории (культ Польши как страдалицы среди народов, несущей искупительную жертву, враждебное неприятие России), он прошел мимо современных ему социалистических сен-симонистских утопий (которые могли повлиять на польского поэта), но передавая мысли Мицкевича, создавая его образ, он выстроил такой смысловой ряд, который явился значительным достижением русской поэзии. В данном случае слова Достоевского из «Пушкинской речи» о «всемирной отзывчивости» поэта [Достоевский; т. 26: 130] вполне уместны. Пушкин поднимается до всечеловеческого взгляда на будущее.
Рассматриваемое поэтическое пересечение Пушкина и Мицкевича ярко высвечивает и их различие. Русский поэт не пытается создавать фантастические картины грядущего, он стоит на твердой почве реальности. В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) будущее совсем не утопическое:
«И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит» [Пушкин: 340].
Пока лира будет нетленна, память о Пушкине будут хранить поэты. Далее он перечисляет народы России и предполагает, что те, которые есть при его жизни, останутся и дальше, а не сольются в «великую семью». Идентичности «внука славян», «финна», «тунгуса», «друга степей калмыка» сохранятся. Только тунгус, «ныне дикой», может преобразовать свой статус.
Мицкевич как автор утопий, пусть и недописанных и неопубликованных, пытался представить будущее. Делал он это и в поэзии — например, в написанном по мотивам польского восстания 1830–1831 гг. стихотворении «Редут Ордона», где возник откровенно пессимистический вариант: «…когда вера и свобода покинут народы, когда Землю затопят деспотизм и сумасшедшая гордыня <…> Бог взорвет эту Землю»12.
Подобный сюжетный ход чужд Пушкину. Он может попробовать рассмотреть варианты развития истории России и славянства в целом, но лишь откликаясь на текущие политические события:
«Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос»
(«Клеветникам России», 1831) [Пушкин: 209].
Любопытно, что и в этом случае обращение Пушкина к футурологии спровоцировано польской тематикой — восстанием 1830–1831 гг.:
«Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?» [Пушкин: 209].
Рассуждения поэта опять-таки отталкиваются от современной ему реальности, они не носят абстрактного характера. И здесь у Пушкина, наверное, впервые возникает образ соединения народов, пока только славянских, возможно полемически заостренный против Мицкевича.
Мицкевич, работавший над «Историей будущего», предстает автором, увлеченным новейшими идеями, что спорадически проникает и в его поэзию. Пушкин же творит как писатель, чуждый новейших изысков. Это заметно на фоне таких его современников, как Ф. Булгарин («Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке», 1824; «Сцена из частной жизни в 2028 году», 1828) и В. Одоевский («4338-й год: Петербургские письма», 1835) — оба автора могли повлиять на замысел «Истории будущего».
Излагая мысль Мицкевича в стихотворении «Он между нами жил…», Пушкин придерживается согласия с Мицкевичем в понимании идеала и будущего народов, подхватывает мысль польского поэта о необходимости стремления к всечеловеческому единству, продолжает ее и поэтически возвышает.
Список литературы Диалог о будущем в поэзии Александра Пушкина и Адама Мицкевича
- Алексеев М. П. Замыслы "Historii przyszłości" Мицкевича и русская утопическая мысль 20-х-30-х годов XIX века // Slavia. 1959. Ročník XXVIII. Sešit 1. S. 58-68.
- Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени: разыскания и этюды // Алексеев М. П. Пушкин: сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1972. С. 5-159.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
- Ивинский Д. П. Пушкин и Мицкевич: история литературных отношений. М.: Языки славянской культуры, 2003. 432 с. (Сер.: Studia philologica.). EDN: QQTWPB
- Пушкин А. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 3 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Стихотворения_Пушкина_1826-1836 (17.12.2025).
- Цявловский М. А. "Он между нами жил.".: к истории создания стихотворения // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 195-206.
- Inglot M. Romantyzm. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: Słowo / Obraz Terytoria; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. 295 s.
- Skwarczyńska S. Mickiewicza "Historia przyszłości" i jej realizacje literackie: wraz z podobizną autografu. Łódź; Wrocław: ŁTN Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. 200 s. (Ser.: Prace Wydziału 1 - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii; no. 59.).