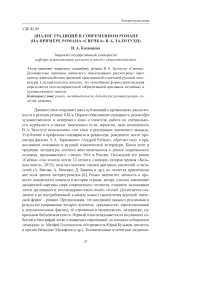Диалог традиций в современном романе (на примере романа «Свечка» В.А. Залотухи)
Автор: Казанцева Ирина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Автор выявляет жанровую специфику романа В.А. Залотухи «Свечка». Доминантные признаки эпического повествования рассмотрены через призму взаимодействия традиций христианской и светской русской литературы. Сделана попытка доказать, что своеобразие формы произведения определяется постмодернистской гибридизацией признаков медийных и художественных текстов.
Роман, медийный текст, библейские реминисценции, аллюзия, цитата
Короткий адрес: https://sciup.org/146281570
IDR: 146281570 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Диалог традиций в современном романе (на примере романа «Свечка» В.А. Залотухи)
Данная статья открывает цикл публикаций о проявлениях диалогичности в русском романе XXI в. Первое образование сценариста, режиссёра художественного и неигрового кино и писателя, работа по специальности журналиста в начале творческого пути, вероятно, дали возможность В. А. Залотухе использовать этот опыт в реализации эпического замысла. Углубление в профессию сценариста и режиссера, рожденное после просмотра фильма А. А. Тарковского «Андрей Рублев», обретает силу в православном основании и русской классической литературе. Книга книг и традиции литературы золотого века включаются в диалог современного человека, проживающего «лихие» 90-е в России. Последний его роман «Свечка» стал итогом почти 12-летнего «затвора» (вторая премия «Большая книга», 2015), получил высокие оценки критиков, писателей и читателей (А. Битова, А. Немзера, Д. Быкова и др.), но остается практически вне поля зрения литературоведов [6]. Роман запечатлел личность в процессе поворотного момента в истории страны, автору удалось замещение дискретной картины мира современного читателя, ставшего заложником эпохи зрелищности, постмодернистского modus vivendi. Достигается сказанное в не востребованной в начале нового тысячелетия крупной эпической форме – романе. Предположим, что авторский замысел реализован в результате сопряжения четырех аспектов: «реальности» (представленной в документальных фактах), её отражении в медиатекстах, литературе, сакральном библейском тексте. Первый план складывается из подлинных событий и биографий легко узнаваемых персонажей, из которых собираются «имиджи» (о. Матфей Голохвостов, обозреватель Юрий Кульман, писатель и критик Венедикт Малофеев и др.). Телевизионные и печатные медиатек- сты, создаваемые журналистами, и заказчики медиапродукта приводят в движение внешний сюжет романа. Значимую роль в эпическом пространстве романа играет литература, классическая, советская и современная. Источниками цитат, реминисценций и аллюзий становятся произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, К. А. Федина, Г. Е. Николаевой, Е. А. Евтушенко, А. Г. Битова и др. Художественные образы – «коды» в поступательном движении человека, который «пошёл однажды защищать демократию и встретил Бога» [4, т. 2, с. 765]. Это первый лейтмотив романа, реализуемый с использованием жанровых особенностей классического романа XIX века с центрированием личности, традицией сюжетостроения, типологией героев, взаимодействием точек зрения автора, повествователей, персонажей. Текст Библии доминирует в романном развитии, поэтому остановимся на нём подробнее. Называя лекции Ю. Б. Норштейна в ряду наиболее значительных во время обучения на Высших курсах сценаристов и режиссеров, В.А. Залотуха развивает линию мастера, отстаивающего в цифровую эпоху значимость движения, «проработанного духом» (П. А. Флоренский). Вторым лейтмотивом, определяющим внутренний сюжет романа и его ритм, становится вопрос, впервые заданный Кларой Шаумян: «Если не он, то кто?» [Там же, т. 1, с. 180]. Он становится сначала неявно, а затем всё более определённо связанным для главного героя с текстом Книги Иова.
Начальные слова из неё выбраны в качестве первого эпиграфа к роману «Был человек в земле Уц» [Там же, с. 7]. Вопрос Иова задаёт внутреннюю тему и корректирует классическую романную структуру в постмодернистскую эпоху, когда целостность и эпичность поставлены под сомнение, жанр романа вытеснен на периферию литературного процесса. Благодаря подобному выбору современного писателя в центре оказывается вопрошающий человек. Дерзнув вступить в общение с Богом, герой начала XXI века, подобно своему предшественнику из самой загадочной из книг Ветхого Завета, постепенно движется к диалогу, смысл вопроса для него приоткрывается, но остаётся неясным после встречи с академиком Бассом, не без иронии обрисованным серьёзным специалистом по тексту Библии эпохи атеизма. В отличие от одной из законодательных книг Ветхого Завета – Левита, переписанного Золоторотовым трижды, мы не увидим в романном действии знакомства героя с содержанием Книги Иова, оно будет сопрягаться с историей обретения веры Евгением Алексеевичем косвенно через систему ситуаций его жизни, в напряженном стремлении к «встрече» с Богом. Было бы абсолютно некорректно сопоставлять героев Библии и романа, но нельзя обойти те указатели, которые предлагает автор, настойчиво через реминисценции и цитаты обращая читателя к мотиву диалога с Богом. Итоговый результат вопрошания Иова – хвала Богу, о котором он смог сказать: «Только слухом я слышал о Тебе; Ныне же глаза мои видят Тебя» [2, с. 377]. Закончились сомнения, и получен ответ лишь на один, но зато главный вопрос: «А если не он, кто еще?» [Там же, с. 326].
Герой В.А. Залотухи в реальности конца ХХ века посредником в диалоге избирает русскую литературу. Из почитателя «Войны и мира» Л. Н. Толстого (кульминацией которого становится просьба прислать в домзак эпопею Льва Николаевича) через отрицание подлинности изображённого им мира после испытаний тюрьмы (начало которых – «превращение» тома в «орудие ближнего боя») возрождается человек, принимающий картину, отражённую Ф. М. Достоевским. Фёдор Михайлович не представляется ему фальшивым, его слова «милостивые государи и милостивые государыни» становятся сначала кодом в обретении родственной души (речь у памятника Ф. М. Достоевскому и встреча с Галиной Глебовной Куставиновой), а затем и прямым исполнением детского желания о встрече нового тысячелетия. Отношение Ф. М. Достоевского к Книге Иова и интертекстуальные связи с ней достаточно детально исследованы [3; 5; 7]. Так, для Евгения Алексеевича его разговор с Богом, озаглавленный как «Твои разговоры с Богом», начинается в низшей точке его падения в 44 камере, это одновременно кульминация внешнего романного развития. До этого были подступы, интеллигентские разговоры с подсадной уткой Слепецким, оказавшимся бездарным писателем. Эти этапы по внутреннему напряжению соотносимы с воплями «человека из земли Уц». Им предшествует десакрализация, построенная на приёмах постмодернистской игры, определённая сначала как «чувство», а затем как «знание» о Боге, которым герой делится с Матфеем Голохвостовым, «сдавшим» несчастного властям и награждённым в финале атрибутами чёрта от «беглеца». Автор романа создаёт симулякры, которые в изобилии рассеяны в произведении как указатели на факты из биографий, как правило, медийных персонажей и на медийные тексты. Они начинают исчезать как морок с момента кульминации романа, пришедшейся на девятый день пребывания героя в «аду». Библейскому герою возвращают благополучие в результате его диалогов с четырьмя персонажами и финального разговора с Богом. Современный герой обнаруживает, что его жизнь фальшива, а жена, «дочь», «любовница», почти все окружающие оказались чужими. Главной его потерей становится мать, бывшая центром его жизни. Она более книжная и придуманная, нежели его отец-рецидивист, вероятно, не прочитавший ни одной книжки. Кульминация происходит, когда Золоторотов прочитал поэму отрекшейся от него матери. В романном развёртывании судьбы Евгения Алексеевича отказ матери, которая воспитана советской литературой, по ее выражению, «научившей (людей. – И. К .) не плакать» [4, т. 1, с. 125], накладывается на его отказ от этой литературы. Происходит обращение к христианской традиции.
Сопоставляя античные и ветхозаветные тексты, С. С. Аверинцев отмечает существенное их различие: «Вообще выявленное в Библии вос- приятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело – не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объёмная пластика мускулов, а уязвляемые “потаённости недр” (Притч. 20: 27, 30), это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано изнутри, его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого “нутра”» [1, с. 67]. Это условие диалога, противопоставление фальшивой книжности и подлинного Слова происходит в дальнейшем, когда современная массовая литература составляет фонд библиотеки ИТУ, не заинтересовавшей Золоторотова, зато ее завсегдатай – настоящий преступник Космачёв. В ИТУ «Ветерок» герой становится переписчиком одной из законодательных книг Ветхого завета – Левита. Помня о том, что судьба «заказчика» этой работы, старосты православной общины Игорька, переложившего свою епитимью на главного героя романа, юмористически иллюстрирует, что «ни одна из них (малых птиц. – И. К.) не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10: 30), читатель убеждается в неслучайности событий, дающих возможность для диалога с Богом героя, трижды переписавшего книгу Ветхого Завета. Лейтомотив-вопрос романа разворачивается теперь в нескольких плоскостях. В романе первоначально это вопрос к герою, он понят им как указание на настоящего преступника, а в последних частях «Свечки» – это его апелляция к Богу и уже точная цитата из древней книги, воспроизводящей в деталях ситуацию, подобную той, в которой этот вопрос звучит из уст Иова. Усиление акцентов происходит через Новый Завет, который автор вводит преимущественно через аллюзии. Так, образ Христа, который входит в текст с первым утверждением Сергея Коромыслова, еще не ставшего о. Марти-рием, противоречит сакральному тексту (мысль о смеющемся русском Боге). В судьбе Золоторотова «смех», конечно, не атрибут Бога, но авторская характеристика чаяний Евгения Алексеевича, который принимает за «глас с небес» звук из радиоточки на железнодорожной станции накануне ожидаемой неминуемой гибели на этапе. Внешний ответ развёрнут во внутренний через обретение отца, в финале главы обозначенном через аллюзии в одном ряду с Абсолютом: «Отец твой и бог твой. Отец мой и бог мой» [4, т. 2, с. 690]. «Узелки» Золоторотова развязываются постепенно, например, в происхождении клички отца «Монастырь», изображении места крещения героя, казни сорока монахов Кларой Шаумян, инвалидного дома в Городище. На теле отца есть и свечка, с которой все началось и которая наглядно соединяет оба лейтмотива романа.
Левит как законодательная книга нисходит с небес к «обиженным» (событию, впрочем, найдено материалистическое объяснение). Иллюстрируется диалог Бога с последними. Лишь они, в отличие от лагерной общины «православных», не выдержавших даже сорока дней проверки на крепость веры, в наивно-детском вопрошании защиты и узнавании себя в древнем народе отмечены и награждены. Из хаоса накануне тысячелетия в лагере, оставленном новым начальником Антоном Павловичем Яснополянским и сносимом потоками нечистот, «обиженные» слышат обращение «милостивые государи и государыни», пробуют «царское блюдо». Финал тюремных мытарств героя решён не в форме пародии, но в образе триумфа любви. Книга Левит осталась для Игорька непрочитанным «пособием для ветеринаров» [Там же, т. 1, с. 654], после знакового поединка Челубеева с о. Мартирием, ассоциативно направляемым автором и о. Мар-дарием к битве, решившей исход духовного противостояния в пользу православия, но не освободившем от ига татаро-монгол Русь в XIV веке, происходит превращение старосты из благоразумного разбойника в двойника Пельша, а затем его самоубийство. Община Игорька погружается во тьму, страшнее той, что была до обращения. В романе единственными верными читателями Левита становятся последние, совершающие один из подвигов Геракла, посредником в общении становится заключенный по кличке Левит, в прежней жизни Евгений Алексеевич Золоторотов. Он счастливо спасен от смерти, которой наказан действительный преступник, после пересмотра дела получает свободу, а кукловод Наум оказывается в лагере. Герой обретает любимую жену и четырех детей. В пространстве романа хаос уничтожен после бури. Эпилог романа рифмуется с «ответом» Иову, увидевшему Бога в открывшейся гармонии Творения его рук.
Проведённый автором через «выход» (по наблюдению С. С. Аверинцева за спецификой текста книги Иова) из привычного состояния Золоторотов, с которым романный писатель встречается на Пасху, возвращается к принятию Творения, обретает крепость веры, благодаря свободному выбору и любви к Божьему миру. Писатель доказывает значение эпилога для романа XXI века, оставив тайной только природу свободы человеческого выбора. Послесловию предшествует вариант сказки о дурне Гансе, в которой воспета материнская любовь. Эпическое полотно завершается обретением целостности и полноты бытия: герой находит своего отца, «видит» Отца, становится счастливым отцом четырех детей.
Собранные к финалу романного повествования большой и малый сюжеты, внешний и внутренний человек, история страны и частного человека через диалог с Библией, светской литературой, публицистикой и реальностью рассказывает историю о ценностях, обращенную к каждому человеку начала нового тысячелетия. В слое текста, построенном на обращении к медиатекстам и литературе, автор широко использует приёмы постмодернистской игры (история журналистки Кати Целовальниковой, судьба матери героя Анны Андреевны Твёрдохлебовой). В интертекстуальном обращении к библейским текстам восстанавливается серьёзность последних вопросов современного человека, обретающего веру.
Об авторе:
THE DIALOGUE OF TRADITIONS IN THE MODERN NOVEL (ON THE EXAMPLE OF “THE CANDLE” BY V. A. ZALOTUKHA)
I. A. Kazantseva
Tver State University
Department of Journalism, Advertisement and Public Relations
Список литературы Диалог традиций в современном романе (на примере романа «Свечка» В.А. Залотухи)
- Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. 480 с.
- Аверинцев С. С. Собр. соч. Переводы: Евангелие. Книга Иова. Псалмы. Киев: Дух i лыера, 2004. 500 с.
- Ефимова Н. Мотив библейского Иова в "Братьях Карамазовых" // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. СПб.: Наука, 1994. С. 122-131.
- Залотуха В. А. Свечка: В 2 т. М.: Время, 2015. Т. 1. 832 с.; Т. 2. 864 с.
- Ионина М. А. Ветхозаветная Книга Иова в творчестве Ф.М. Достоевского: автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.01.01 / М.А. Ионина; Томский гос. ун-т. Томск, 2007. 23 с.
- Колпаков А.Ю. Проблема веры в современном романе о герое-интеллигенте: "Андерграунд, или герой нашего времени" В. Маканина и "Свечка" В. Залотухи // Вестник Челябинского государственного университета. Филологические науки. 2018. № 6. Вып. 113. С. 76-82.
- Левина Л.А. "Новый Иов" в творчестве Ф.М. Достоевского и в русской культуре XX века // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. СПб.: Наука, 1994. С. 204-220.