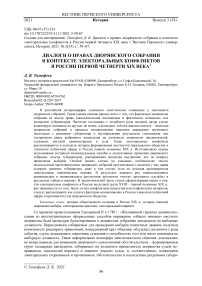Диалоги о правах дворянского собрания в контексте электоральных конфликтов в России первой четверти XIX века
Автор: Тимофеев Д.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальные группы в зеркале идей и конфликтов
Статья в выпуске: 3 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
В российской историографии сложилось скептическое отношение к значимости дворянских собраний. Такая оценка связана прежде всего с тем, что формально дворянские собрания не имели права законодательной инициативы и фактически оставались под контролем губернаторов. Частично соглашаясь с подобного рода оценкой, автор статьи акцентирует внимание на другом, не менее, а возможно, и более важном аспекте - значении дворянских собраний в процессе возникновения практики выражения группового несогласия с решением губернатора о неутверждении результатов голосования или отстранении ранее выбранных кандидатов на должности дворянских предводителей, служащих местной администрации и суда. Такие электоральные конфликты рассматриваются в контексте истории формирования институтов гражданского общества и элементов публичной сферы в России первой половины XIX в. Источниковую основу исследования составили индивидуальные жалобы и коллективные прошения дворянского собрания, отчеты губернаторов, распоряжения министра внутренних дел по вопросу проведения выборов. Особый акцент сделан на языковых особенностях текста, используемой представителями дворянских собраний аргументации о наличии у них права оспорить решение губернатора, даже в том случае, если их позиция противоречила действующим юридическим нормам. В результате выявлен ряд взаимосвязанных рациональных и эмоциональных аргументов: аргументы «чести», аргументы «службы» и аргументы «общего мнения». В заключительной части статьи сформулирован вывод о том, что электоральные конфликты в России последней трети XVIII - первой половины XIX в., вне зависимости от того, были ли они конфликтами ценностей или конфликтами интересов, следует рассматривать как один из факторов возникновения в России элементов публичной сферы и протоинститутов гражданского общества.
История общественного сознания в России xix в, история понятий, дворянские выборы, электоральные практики, электоральный конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/147245289
IDR: 147245289 | УДК: 94(47+57):324 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-3-59-67
Текст научной статьи Диалоги о правах дворянского собрания в контексте электоральных конфликтов в России первой четверти XIX века
ского дворянства в период проведения выборов эмоционально описывал смоленский гражданский губернатор С. С. Апраксин в представлении министру внутренних дел 18 мая 1805 г.: «Дворянин, желающий быть избранным или желающий избрать кого-либо к занятию важного поста в своем уезде, прежде отъезда в губернский город, составляет партию. <…> Иногда бывает таковых партий в одном уезде две или три. Каждая старается по возможности себя усилить числом, привлекая для умножения избирательных балов самобеднейших дворян, провоз которых до губернского города, содержание их во все продолжение выборов и своз до дома остается обыкновенно на счет приглашающих» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1805. Кн. 22. Д. 8. Л. 167‒167 об.).
Таким образом, выборы в дворянских собраниях являлись катализатором двух разнонаправленных процессов: дифференциации и внутригрупповой консолидации местного дворянства. Конечно, консолидация дворянства не всегда и не во всех губерниях проявлялась в равной степени. В наиболее отчетливой форме понимание важности совместных действий происходило в ходе электоральных конфликтов как между группами сторонников определенного кандидата, так и между ними и губернской администрацией.
Конфликты между дворянским собранием и губернатором возникали в случае отказа последнего утвердить на должности уже избранных дворян или при исключении какого-либо дворянина из списка лиц, обладавших правом участия в работе собрания. В ходе таких конфликтов дворяне вынуждены были аргументировать значимость коллективного решения, противопоставляя его субъективному мнению губернатора. Все вышеизложенное актуализирует постановку вопроса о роли электоральных конфликтов в истории формирования в России XIX в. институтов гражданского общества2 и возникновения структурных элементов публичной сферы, становление которых к этому времени, как показал в своих работах Ю. Хабермас, уже произошло в ряде стран Европы [ Хабермас , 2017].
В дореволюционной историографии вследствие скептического отношения к институту дворянских выборов как форме самоорганизации и выражения групповых интересов основное внимание исследователей было направлено на содержание правительственной политики в отношении дворянства [ Яблочков , 1876; Клочков , 1912]. Фактическим основанием для признания незначительной роли дворянских собраний в общероссийском масштабе называлось отсутствие у них административных и законодательных полномочий, а на уровне отдельных индивидов – случаи уклонения дворян от службы на выборных должностях. Объясняя нежелание работать «на должностях, по выбору дворянского собрания определяемых», А. Б. Романович-Славатинский и С. А. Корф, например, вполне обоснованно отмечали, что государственная, а не общественная (выборная) служба имела доминирующее значение для внутрисословного статуса дворянина [ Романович-Славатинский , 1870, с. 490-496, 547, сн. 136; Корф , 1906, с. 353, 436–448]. Именно государственная служба была необходимым условием для получения чина, наличие которого было универсальным критерием социального ранжирования внутри правящего сословия, и предоставляла возможность установления полезных для карьерного роста служебных знакомств, а при определенных условиях – получения пожалований в форме населенных крестьянами имений.
В советский период история дворянских выборов практически исчезла из поля зрения исследователей по идеологическим причинам. Возвращение к истории электоральных практик дворянства в контексте истории возникновения гражданского самосознания прослеживается в работах современного российского историка А. И. Куприянова. Не идеализируя работу дворянских собраний, автор отмечает важность выборов как процедуры, обусловливавшей возможность «публичного общения дворян за пределами соседских и родственных связей», способствующей самоорганизации отдельных групп дворян, осознанию корпоративной общности, структурированию частных интересов на губернском и уездном уровнях [ Куприянов , 2017, с. 386]. С этих позиций А. И. Куприянов приходит к выводу о том, что дворянские сообщества в Московской, Тамбовской и Тверской губерниях в конце XVIII – первой половине XIX в. хотя и не были элементами гражданского общества, но могут быть определены как институты, относящиеся к предыстории его становления.
Обозначенное в историографии скептическое отношение к роли дворянских собраний в истории общественного сознания было основано на выявлении негативного отношения дворя- нина к институту выборов, проявлявшегося в низкой явке и уклонении от исполнения обязанностей на выборных должностях. Однако все эти факты, на мой взгляд, отражают лишь одну из моделей поведения дворянина. Поскольку наряду с теми, кто относился к работе на выборных должностях как к обременительной общественной обязанности, были и дворяне, которые, несмотря на отрицательное решение губернатора, отстаивали свое право избирать и быть избранными. Подтверждением наличия у части дворян подобного рода стремления служит множество сохранившихся в фондах Российского государственного исторического архива индивидуальных и коллективных прошений о защите «права баллотировать» и жалоб на неутверждение в должности уже избранных кандидатов. Адресованные министру внутренних дел, а в некоторых случаях и императору, такие прошения позволяют утверждать, что одновременно с уклонением от выборов сосуществовала и другая – активистская – модель электорального поведения.
Разнонаправленность моделей электорального поведения, на мой взгляд, обусловливает необходимость изменения исследовательской «оптики» посредством смещения акцентов с малозначительности роли дворянских собраний в общей системе принятия решений на реконструкцию аргументации участников электоральных конфликтов. Принципиально важно определить, каким образом дворянин обосновывал жалобы на отстранение от участия в выборах, выявить механизмы возникновения и формы проявления групповой солидарности, реконструировать, посредством каких понятий и риторических приемов происходила аргументация важности коллективного мнения в том случае, если оно противоречило позиции губернских вла-стей3.
На индивидуальном уровне активная позиция дворянина проявлялась в экстраординарных условиях, когда личные ожидания не соответствовали реальности и сложившиеся обстоятельства вынуждали его открыто высказываться о происходившем в процессе подготовки и проведения выборов в дворянском собрании. Исключение из списков участников голосования, необоснованное отстранение от выборной должности – все это вызывало активное выражение несогласия в форме индивидуальных жалоб и прошений. В соответствии со сложившейся практикой составления подобного рода документов в тексте жалобы приводилось подробное описание произошедших событий, указывались их «истинные», по мнению автора, причины. Не менее устойчивыми элементами внутренней структуры прошений являлись апелляция к общепризнанным моральным или юридическим нормам, а также утверждение автора о негативных личных переживаниях, вызванных отстранением его от выборов/выборной должности.
Показательный пример сочетания рациональных и эмоциональных аргументов – «покорнейшее прошение» тульского помещика премьер-майора М. А. Козакова министру внутренних дел В. П. Кочубею (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3). В январе 1807 г. он сообщил о необоснованном отстранении его от должности уездного предводителя дворянства. Событийная сторона дела состояла в следующем: предварительно обратившись через губернского предводителя дворянства П. С. Вадбольского к тульскому гражданскому губернатору Н. П. Иванову, 23 ноября 1806 г. М. А. Козаков получил разрешение на «увольнение в Санкт-Петербург на три месяца» для устройства двух своих сыновей в пажеский корпус. По возвращении же из столицы автор прошения был извещен о том, что по представлению губернского предводителя дворянства губернатор назначил на его место майора Алексея Сергеева4. Формально смена предводителя объяснялась необходимостью безотлагательного решения вопросов, связанных с созывом земского войска (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3. Л. 144–145). Выражая несогласие с принятым решением, М. А. Козаков предельно четко обозначил ожидаемый результат рассмотрения своего прошения: «возращение в прежние права по должности предводителя избранием дворянства на меня возложенные, а преградившие мне к тому пути, да не останутся без взыскания законного» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3. Л. 166).
Первый аргумент, демонстрировавший необоснованность и «несправедливость» принятого решения, был связан с предысторией вопроса. Автор сообщал, что ранее (в мае 1801 г.) он был избран на должность уездного предводителя дворянства, а «…по отправлении же сего служения в течении трех лет с должным к званию дворянина усердием» вновь был переизбран на эту же должность. Повторное избрание, по словам Козакова, является неопровержимым свидетельством признания местным «благородным дворянством» его «усердия о общественной пользе и способности» к исполнению возложенных на него обязанностей (РГИА. Ф. 1284.
Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3. Л. 165 об.). С этих позиций увольнение избранного большинством голосов дворянина и назначение на его должность А. Сергеева трактовалось автором как произвол губернского предводителя при молчаливом согласии губернатора. Обращаясь к министру внутренних дел, он писал: «Продолжив беспорочно все время службы моей, и удостоясь вниманием к себе благородного дворянства, два раза подтверждавшего меня в должности предводителя, я по одному теперь соглашению губернского предводителя с господином гражданским губернатором, без желания, без вины или порока, теряю ныне место, службу, и оскорбляюсь в чести» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3. Л. 166). Наличие официального разрешения на временное пребывание в Санкт-Петербурге с указанием места его нахождения, а следовательно, и возможности сообщить о необходимости незамедлительно возобновить службу, по словам автора, свидетельствовало об изначальном намерении губернского предводителя сместить его с должности и «…открыть путь господину Сергееву». Следуя этой логике, автор прошения упрекал своих оппонентов: « следовало бы начальству известить меня, всегда готового, отложа частные попечения, обратить направление ко благу общему и возвратиться тотчас к месту моего назначения» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3. Л. 166). Противопоставляя «доверие дворянства» частным договоренностям губернского предводителя, Козаков, по сути, воспроизводил публично одобряемый на уровне официальных деклараций тезис о стремлении каждого дворянина «содействовать достижению общего блага».
Одновременно с обличением «оскорбительного содействия» начальства, затрудняющего ему исполнить свой общественный долг, автор сформулировал еще один аргумент: необоснованное увольнение имело своей целью «…восхитить ожидаемую признательность дворянства» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3. Л. 166). Что же ожидал М. А. Козаков от избравшего его дворянского сообщества? Почему для него была так важна «признательность» дворянства, которая, в отличие от признания заслуг со стороны правительства, не сопровождалась какими-либо наградами или приобретением более высоких формально-статусных позиций в чиновничьей иерархии?
Ответы на эти вопросы связаны с пониманием взаимосвязи ключевых для автора понятий: признательности, чести и службы. Право рассчитывать на «признательность» дворянства преподносилось им как следствие «ревностного служения» на протяжении двух неполных трехлетних сроков подряд. Досрочное же отстранение от должности по инициативе начальства, если оно не было связано с ухудшением состояния здоровья человека, давало повод подозревать его в ненадлежащем исполнении обязанностей, что прямо противоречило представлениям о дворянской чести. Первоначально может сложиться впечатление, что пребывание на выборных должностях оценивалось автором по тем же критериям, что и государственная служба, которая предполагала неукоснительное следование дворянина формально установленным юридическим нормам и представлениям о дворянской чести. Но в данном случае апелляция к чести и обязанности дворянина «ревностно служить» не предполагала полного отождествления службы на выборных должностях с государственной службой. Существенное отличие, о котором автор неоднократно упоминает, состоит в следующем: обязанность предводителя возлагается «доверием» всего губернского дворянства , а следовательно, именно оно может по достоинству оценить результаты его деятельности. Ожидаемой же наградой «за службу по выбору» является своеобразный моральный капитал, публичное признание личных качеств и способностей дворянина, что позволяло ему рассчитывать на поддержку дворянского собрания при «баллотировке» на следующих выборах.
Показательно, что такое обоснование важности «доверия» и «признательности» дворянства не подкреплялось никакими юридическими ссылками, но при этом официально было адресовано министру внутренних дел В. П. Кочубею, который, по мнению автора, мог оказать решающее влияние на губернатора. Ожидания Козакова оправдались. Высокопоставленный чиновник в письме тульскому гражданскому губернатору указал на недопустимость игнорировать мнение местного дворянства, отметив, что в случае временного отсутствия предводители дворянства «…лишиться звания сего, к коему они особенною доверенностью дворянства призваны, никак не могут» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 3, 1807. Кн. 30. Д. 3. Л. 179).
Органичным продолжением дискурса о значимости доверия дворянского собрания было акцентирование внимания на взаимосвязи «общего мнения» дворянства и мнения российского монарха. Аргументируя значимость решения собрания, авторы прошений отмечали, что возможность проведения выборов являлась следствием доверия более высокого уровня – доверия монарха российскому дворянству. Как правило, такая аргументация выстраивалась следующим образом: если участие в баллотировании кандидатов, а также служба на выборных должностях одновременно и дарованное верховной властью право, и почетная обязанность российского дворянина, то, следовательно, необоснованное отстранение от выборов (или выборной должности) лишает его возможности проявить ожидаемое верховной властью «усердие в службе на общее благо». Используя данный аргумент, авторы прошений демонстрировали общность целей дворянства и монарха, противопоставляя ее частным, корыстным интересам недоброжелателей, которые препятствовали дворянину реализовать дарованные императором права и «ревностно исполнять» обязанности.
Решение монарха предоставить дворянству право самим определять наиболее достойных кандидатов на выборные должности трактовалось как право дворянского собрания не согласиться с решением губернатора, а в некоторых случаях и как достаточное основание для игнорирования формальных правил , если они препятствовали избранию действительно достойных и способных кандидатов. Такая логика, по сути, была вольной трактовкой зафиксированного в п. 65 «Жалованной грамоты дворянству» права не допускать к выборам «дворянина, которой опорочен судом, или которого явный и бесчестный порок всем известен, хотя бы и судим еще не был…» (Грамота на права, вольности и преимущества…, 1987, с. 37). При возникновении конфликтов с губернатором право выбора произвольно дополнялось признанием способности дворянского собрания адекватно оценить личные качества претендентов и их готовность к службе на выборных должностях, даже в том случае, если они по формальным основаниям не могли участвовать в «баллотировке». Так, например, 14 января 1825 г. в Саратовский губернии после проведения баллотировки участники голосования составили «особый акт» об избрании на очередное трехлетие служащих в уездные и земские суды. Необходимость создания не предусмотренного формальной процедурой акта была продиктована очевидным для самих дворян несоответствием избранных кандидатов требованиям законодательства и одновременно уверенностью в том, что такое несоответствие не имеет принципиального значения в случае, когда личные и профессиональные качества претендентов не вызывают у членов дворянского собрания никаких сомнений. Аргументируя принятое решение, уездный предводитель с «наличными благородными дворянами, собравшимися в губернском городе Саратове», констатировал: «по совершенному неимению в обоих наших уездах из наличных свободных дворян на баллотирование право имеющих, по известной нам способности, честному служению и хорошему поведению, избрали мы жительствующих в наших городах Камышине и Царицыне дворян, не имеющих в округе онаго деревень, ни поместьев, а только одни в городах дома и при них услугу…» (РГИА. Ф. 1557. Оп. 1. Д. 88. Л. 14–14 об.).
Высказанная аргументация раскрывает внутреннюю логику рассуждений о важности «общего мнения» дворянского собрания. Во-первых, участники собрания, по сути, предложили руководствоваться не формальными правилами, а практической целесообразностью, что позволило бы учитывать местные обстоятельства в тех губерниях Российской империи, где по объективным причинам численность дворян была недостаточной. При этом, не подвергая критике установленные законом критерии для отбора кандидатов, авторы акта акцентировали внимание на том, что принятое собранием решение не противоречило главной цели проведения выборов – выдвижению наиболее способных представителей дворянства на выборные должности. Во-вторых, в «особом акте» об избрании дворян Саратовской губернии был сформулирован принцип необходимости адаптации действующего законодательства к местным условиям, реализация которого существенно расширила бы границы свободы выбора дворянского собрания при подборе достойных кандидатов.
Подобное обоснование допустимости исключений из общих правил достаточно часто использовалось в обращениях к представителям имперской администрации и подчеркивало необходимость руководствоваться не только буквой, но и духом закона. С этих позиций отступление от установленных «Жалованной грамотой дворянству» ограничений трактовалось как вынужденное, но все же допустимое нарушение. Характерным примером такой трактовки может служить представление ярославского губернского предводителя Н. А. Майкова, который в де- кабре 1813 г. просил министра внутренних дел допустить к выборам ранее «оштрафованных» и находящихся под следствием до решения суда дворян. По его мнению, установленный указом Сената 15 марта 1809 г. (О порядке увольнения…, 1830, с. 879, 880) запрет существенно осложнял «определение» на выборные должности тех, кто, «…имея способности, и состоя доброго об них мнения дворянского сословия, в случае избрания могли бы обществу быть полезны» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 4а, 1814. Кн. 89. Д. 201. Л. 31б–31б об.). В такой формулировке необходимые для достижения «общей пользы» отступления от буквы закона были допустимы, а достаточным основанием для них являлось «доброе мнение» дворянского собрания о способностях и личных качествах кандидатов.
Одновременно с утверждением о достаточности «доброго мнения» местного дворянства Н. Майков использовал еще один важный аргумент: отстранение от участия в выборах лиц, обвиняемых в совершении незначительных проступков, может привести к необоснованному нарушению их избирательных прав, так как окончательное решение по делу еще не принято и они могут быть признаны невиновными. В случае же принятия судом оправдательного решения превентивное отстранение от выборов становилось несправедливым наказанием для дворянина. С этих позиций, Н. Майков органично совмещал утверждение о способности дворянского сообщества адекватно оценить личные способности дворянина с презумпцией его невиновности и, обращаясь к министру внутренних, дел писал: «…дабы неумышленно впадший в преступление, но сам по себе способный и почетный дворянин по одному наименованию бытия его под судом не мог лишиться принадлежащих ему преимуществ, я за непременный долг поставил ходатайствовать у Вашего Высокопревосходительства о разрешении тем дворянам права на выборы…» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 4а, 1814. Кн. 89. Д. 201. Л. 33 об.–34). Предлагаемое им смягчение формальных ограничений имело и сугубо практическую цель – предотвратить «в дворянах недостаток» на предстоящих в 1814 г. выборах, так как часть дворян еще не возвратилась после службы в ополчении. Последний аргумент, хотя и был представлен как отражение особых обстоятельств послевоенного времени, подчеркивал целесообразность повышения доверия «общему мнению» дворянского собрания в контексте не только прав, но и обязанности представить кандидатов на выборные должности.
Таким образом, при возникновении электоральных конфликтов как между группами поддержки кандидатов на выборные должности, так и между ними и губернатором использовалось несколько взаимосвязанных аргументов, которые условно можно разделить на три группы: аргументы «чести», аргументы «службы» и аргументы «общего мнения» .
К первой группе относятся аргументы морально-этического ряда с использованием понятий «честь», «несправедливость», «обида», которые встречаются в индивидуальных и коллективных обращениях дворян к представителям высшей правительственной администрации. Употребление эмоционально окрашенных слов и словосочетаний особенно заметно в тех случаях, когда формальным поводом для отстранения служили «личные» донесения о недостойном поведении кандидата на выборную должность. Рассматриваемые в контексте целеполагания участников конфликта подобного рода документы позволяют прояснить неформальный аспект восприятия поместным дворянином выборов как публичной процедуры. На мой взгляд, сам факт существования такого способа сведения личных счетов свидетельствует о том, что в среде поместного дворянства начала XIX в. исключение из списков участников процедуры баллотировки, даже если дворянин не стремился получить какую-либо выборную должность, воспринималось как значительный удар по репутации. С этой точки зрения выборы становились важным инструментом решения межличностных и внутригрупповых конфликтов, а избрание на выборную должность было дополнительным показателем внутригруппового статуса дворянина.
Основанием для аргументов второй группы (аргументы «службы») было утверждение о значимости для каждого «благородного российского дворянина» стремления «усердно служить на общее благо» и невозможности вследствие действий недоброжелателей или должностных лиц исполнить свой «общественный долг». Содержательно аргументы «службы», по сути, воспроизводили публично провозглашаемые нормы, ценности и идеальные модели поведения дворянина, но в некоторых случаях за ними скрывались сугубо прагматичные, утилитарные цели. В определенной степени это было связано с постепенным расширением круга вопросов, которые рассматривались при участии предводителей дворянства и выборных работников «судеб- ных мест». В царствование императора Александра I дворянские предводители участвовали в межевании земель, рассмотрении дел по жалобам крестьян на помещиков, установлении дворянской опеки, раскладке рекрутской повинности в помещичьих имениях, составлении сметы и раскладке земских повинностей. Совместно с губернатором предводитель дворянства определял, какое количество людей помещики должны были поставить в ополчение; участвовал в организации рекрутских наборов, заключении контрактов на поставки провианта военному ведомству; входил в состав квартирных, «ликвидационных», а также ревизионных комиссий, учреждаемых во время проведения сенаторских ревизий; выступал инициатором сбора «дворянских складок» и т.п. [ Романович-Славотинский, 1870, с. 461-465, 473; Корф, 1906, с. 312314, 319, 321–322, 325–327, 330]. Указанный перечень должностных обязанностей и соответствующих им возможностей оказывать непосредственное влияние на повседневную жизнь дворян губернии, на мой взгляд, во многом объясняет актуальность проявлений внутригрупповой солидарности для выбора «своего» кандидата, на помощь и покровительство которого выборщики могли рассчитывать. Не менее значимым в данном контексте был выбор работников судебных мест, которые могли содействовать решению дел по имущественным спорам. Все эти утилитарные по своей природе основания органично сочетались с обозначенными выше аргументами «службы», воспроизведение которых позволяло обосновать личную заинтересованность дворянина, используя публично признаваемые и поместным дворянством, и высшими властными институтами постулаты о дворянской чести и бескорыстном служении дворянина на «общее благо».
При возникновении электоральных конфликтов с губернатором наиболее часто использовались аргументы третьей группы (аргументы «общего мнения»), смысл которых сводился к провозглашению безусловной важности коллективного решения участников дворянского собрания. При этом, как свидетельствуют приведенные выше примеры, существовала разнона-правленность аргументов о значимости «общего мнения» и возможности его отстаивания дворянским собранием: подчеркивались необходимость неукоснительного соблюдения закона, наличие права и обязанности собрания «наполнить места, от выборов дворянства, зависящие», и одновременно высказывались аргументы, направленные на обоснование целесообразности разрешить собранию отбирать кандидатов, даже в том случае, если по формальным критериям они не могли участвовать в выборах.
Такая аргументация дополнялась утверждением о необходимости для достижения «общей пользы» учитывать высказанное в процессе голосования «общее мнение» собрания. Подобная логика допускала правомерность и возможность выражения несогласия с субъективным мнением губернатора, но не предполагала институционального противопоставления дворянского собрания и губернской администрации. В условиях отсутствия правовых механизмов разрешения электоральных конфликтов дворянство использовало привычный, патерналистский по своей направленности способ – обращение к министру, осуществлявшим губернские ревизии сенаторам или к императору, позиция которых могла оказать решающее воздействие на поведение губернатора.
В данном контексте электоральные конфликты в России последней трети XVIII – первой половины XIX в. вне зависимости от того, были ли они конфликтами ценностей (при доминирования аргументов чести и службы) или конфликтами интересов (в случае, когда предварительные договоренности имели прагматичную цель – выбрать на должность «своего» человека), не были демонстрацией политической оппозиции и чаще всего отражали особенности взаимоотношений различных групп местного дворянства с конкретным губернатором. Но даже такой ситуативно-личностный, а нередко и сугубо утилитарный, характер обстоятельств возникновения электоральных конфликтов сопровождался осознанием возможности и целесообразности совместных действий губернского дворянства, направленных на отстаивание принятого собранием «общего мнения». Все это позволяет утверждать, что дворянские выборы и связанные с ними электоральные конфликты были важным фактором формирования предпосылок для возникновения в России элементов публичной сферы и протоинститутов гражданского общества.
Список литературы Диалоги о правах дворянского собрания в контексте электоральных конфликтов в России первой четверти XIX века
- Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 632 с.
- Клочков М.В. Дворянское самоуправление в царствование Павла I. СПб.: Тип. Сената, 1912. 375 с.
- Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие (1762-1855 годы). СПб.: Тип. Тренке и Фюско, 1906. 720 c.
- Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь мир, 2003. 782 с.
- Куприянов А.И. Выборы в русской провинции (1775-1861 гг.). М.: Институт Российской истории РАН, 2017. 400 с. EDN: ZAZJHD
- Медушевский А.Н. Гражданское общество // Российский либерализм середины XVIII - начала ХХ века: энцикл. М.: РОССПЭН, 2010. С. 223-226.
- Романович-Славатинский А.Б. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб.: Тип. Мин-ва внутр. дел, 1870. 594 с.
- Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества / пер. с нем. В.В. Иванова. М.: Весь мир, 2017. 344 с.
- Яблочков М. История дворянского сословия в России. СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1876. 680 с.