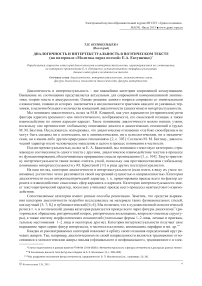Диалогичность и интертекстуальность в поэтическом тексте (на материале «Молитвы перед поэмой» Е.А. Евтушенко)
Автор: Колокольцева Татьяна Николаевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Текст как сложное многоаспектное образование и его критерии
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Определяется сущность категорий диалогичности и интертекстуальности, характеризуется их соотношение; на материале произведения Е.А. Евтушенко устанавливается специфика реализации данных категорий в поэтическом тексте
Диалогичность, интертекстуальность, межтекстовые связи, фигуры диалогизма, показатели диалогичности, фигуры интертекста
Короткий адрес: https://sciup.org/14822309
IDR: 14822309
Текст научной статьи Диалогичность и интертекстуальность в поэтическом тексте (на материале «Молитвы перед поэмой» Е.А. Евтушенко)
Диалогичность и интертекстуальность – две важнейшие категории современной коммуникации. Выявление их соотношения представляется актуальным для современной коммуникативной лингвистики, теории текста и дискурсологии. Однако решение данного вопроса сопряжено со значительными сложностями, главная из которых заключается в неоднозначности трактовок каждого из указанных терминов, в наличии большого количества концепций диалогичности (диалогизма) и интертекстуальности.
Мы понимаем диалогичность, вслед за М.Н. Кожиной, как учет адресантом (отправителем) речи фактора адресата (реального или гипотетического, воображаемого), его смысловой позиции, а также взаимодействие по линии адресант-адресат. Такое понимание диалогичности можно назвать узким, поскольку оно противостоит глобальному пониманию диалога и диалогических отношений в трудах М. М. Бахтина. Исследователь подчеркивал, что диалогические отношения «глубоко своеобразны и не могут быть сведены ни к логическим, ни к лингвистическим, ни к психологическим, ни к механическим, ни к каким-либо другим природным отношениям» [2, с. 303]. Согласно М. М. Бахтину, диалогический характер носит человеческое мышление в целом и процесс понимания в частности.
Под интертекстуальностью, вслед за Е. А. Баженовой, мы понимаем «текстовую категорию, отражающую соотнесенность одного текста с другими, диалогическое взаимодействие текстов в процессе их функционирования, обеспечивающее приращение смысла произведения» [1, с. 104]. Такую трактовку интертекстуальности также можно считать узкой, поскольку она противопоставлена глобальному пониманию интертекстуальности у Ю. Кристевой [11] и ряда других постструктуралистов.
На наш взгляд, категории диалогичности и интертекстуальности (если иметь в виду их узкое понимание) достаточно четко различаются своей внутренней сущностью и направленностью. Категория диалогичности носит антропоцентрический характер, т. к. ориентирована прежде всего на фактор адресата и взаимодействие смысловых сфер адресанта и адресата. Категория интертекстуальности имеет текстоцентрический характер, поскольку учитывает прежде всего процессы межтекстового взаимодействия.
Сопоставляемые категории имеют разные способы реализации. Заметим, что средства выражения категории диалогичности подробно исследовались на материале таких функциональных стилей, как научный [5; 7; 8,] и публицистический [4; 6]. Мы полагаем, что в художественной монологической речи (в т. ч. и поэтической) данная категория реализуется прежде всего через фигуры диалогизма ** (риторическое обращение, риторический вопрос, риторическое восклицание, вопросно-ответные структуры), а также систему морфологических показателей (глагольные формы 1–2 лица, личные и притяжательные местоимения 1–2 лица и некоторые другие). Категория интертекстуальности получает свое выражение через серию фигур интертекста, в частности аллюзию, аппликацию, парафраз и мн. др. ***
Каждая из рассматриваемых категорий вовлекает в орбиту своего влияния определенный круг речевых жанров. Так, например, диалогическими по своей направленности являются традиционно относившиеся к монологическим жанры письма (официального и неофициального, традиционного и элек- тронного) и послания (в разных сферах его использования)*. Как интертекстуальные по своей сути выступают речевые жанры центона, пастиша и др. [см., например: 12; 13].
Объектом для анализа в данной статье послужило известное произведение Е. А. Евтушенко «Молитва перед поэмой», представляющее собой вступление к поэме «Братская ГЭС». Произведение во многом близко жанру послания. Основная часть данного текста содержит фрагменты, адресованные великим русским поэтам, чье творчество является для Е.А. Евтушенко внутренним ориентиром.
Проведенный анализ показал, что в «Молитве перед поэмой» широко представлены различные показатели диалогичности. Текстообразующий характер имеет здесь такая фигура диалогизма, как риторическое обращение. Каждый из стихотворных фрагментов, обращенных к столпам русской поэзии (А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Н.А. Некрасову, А.А. Блоку, Б.Л. Пастернаку, С.А. Есенину, В.В. Маяковскому), строится по одной и той же схеме, которую можно условно обозначить как «Дай, N, мне…», где в качестве желаемых объектов называются какие-то важные для стихотворца качества.
Кроме того в тексте «Молитвы…» активно используются разнообразные морфологические показатели категории диалогичности: личные местоимения 1 и 2 лица, притяжательные местоимения мой , твой , свой , глагольные формы 1 и 2 лица, среди которых особое место занимает многократно употребленная в сильной позиции словоформа дай , имеющая статус одного из ключевых слов.
Вместе с тем 7 стихотворных фрагментов, адресованных русским поэтам, представляют собой микротексты, существенно различающиеся своей внутренней организацией. Каждый из них интертекстуально насыщен и в концентрированном виде несет информацию об идиостиле соответствующего автора: о его излюбленных ритмических моделях, а также о стилистически значимых концептах, наиболее ярких образах и символах. Остановимся на этом подробнее.
Микротекст, обращенный к А.С. Пушкину, представляет собой катрен, написанный любимым пушкинским стихотворным размером – ямбом:
Дай, Пушкин, мне свою певучесть, свою раскованную речь, свою пленительную участь — как бы шаля, глаголом жечь.
Приведенный фрагмент фактически повторяет ритмическую организацию строф знаменитого пушкинского стихотворения «Пророк» (перекрестная рифмовка, ямб с чередованием девяти- и восьмисложных стихов).
Финалом прецедентного текста, как мы помним, является широко известный призыв: Глаголом жги сердца людей! В последнем стихе рассматриваемого катрена из «Молитвы перед поэмой» Е.А. Евтушенко содержится парафраз, восходящий к пушкинскому высказыванию: как бы шаля, глаголом жечь . В качестве других показателей интертекстуальности отметим типичные для А.С. Пушкина эпитеты раскованный , пленительный . Впечатление певучести, столь характерное для пушкинской поэзии, создается Е.А. Евтушенко за счет определенного типа аллитераций, прежде всего благодаря активному использованию сонорных л, н, р и сонанта в , которые замедляют темп речи, а также (в данном случае) делают ее тональность более торжественной.
Микротекст, адресованный М.Ю. Лермонтову, также написан четырехстопным ямбом:
Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд, своей презрительности яд и келью замкнутой души, где дышит, скрытая в тиши, недоброты твоей сестра — лампада тайного добра.
Строфа представляет собой шестистишие с парной рифмовкой (ААВВСС). Подобная рифмовка представлена, в частности, в строфах таких известных произведений М.Ю. Лермонтова, как «Три пальмы» и «Отчего». Процитируем второй текст: Мне грустно, потому что я тебя люблю, // И знаю: молодость цветущую твою // Не пощадит молвы коварное гоненье.// За каждый светлый день иль сладкое мгновенье // Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. // Мне грустно... потому что весело тебе.
Интертекстуальные связи «Молитвы перед поэмой» Е.А. Евтушенко и произведений М.Ю. Лермонтова выражаются главным образом при помощи аллюзий. Желчный взгляд классика на жизнь современной ему николаевской России вообще и светского общества в частности – явление общеизвестное. Не случайно «презрительности ядом» пропитаны многие произведения М.Ю. Лермонтова. Например, такой настрой отражен в финальных строках стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен…»: О, как мне хочется смутить веселость их // И дерзко бросить им в глаза железный стих, // Облитый горечью и злостью !..
Использованное Е.А. Евтушенко словосочетание келья замкнутой души – аллюзивный намек на душевное одиночество лирического героя М.Ю. Лермонтова. Последнее двустишие ( недоброты твоей сестра — лампада тайного добра ) содержит типичную для классика фигуру контраста и проливает свет на соотношение добра и зла в его творчестве.
Микротекст, обращенный к Н.А. Некрасову, представляет собой два катрена, в которых представлен один из любимых трехсложных стихотворных размеров классика:
Дай, Некрасов, уняв мою резвость, боль иссеченной музы твоей — у парадных подъездов и рельсов и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу.
Дай мне подвиг мучительный твой, чтоб идти, волоча всю Россию, как бурлаки идут бечевой.
Приведенный фрагмент «Молитвы…» обнаруживает отчетливые интертекстуальные связи с рядом произведений Н.А. Некрасова, прежде всего с известным стихотворением «Размышления у парадного подъезда». Прецедентный некрасовский текст написан анапестом, где в рамках строфы чередуются восьми-, шести- и семисложные стихи. Е.А. Евтушенко при стилизации стихотворной манеры Н.А. Некрасова использует анапест в 3-м, 4-м, 7-м и 8-м стихах. Об интертекстуальной связи сопоставляемых произведений свидетельствуют также употребленные Е.А. Евтушенко текстовые аппликации: у парадных подъездов и как бурлаки идут бечевой. Если интертекстуальный характер первого фрагмента очевиден, то интертекстуальность второго, возможно, нуждается в подтверждении. Процитируем отрывок из прецедентного некрасовского текста: Выдь на Волгу: чей стон раздается // Над великою русской рекой? // Этот стон у нас песней зовется — // То бурлаки идут бечевой !..
Кроме того, анализируемый фрагмент «Молитвы перед поэмой», обнаруживает интертекстуальные связи и с другими произведениями Н. А. Некрасова. Словоформа у рельсов аллюзивно отсылает нас к стихотворению «Железная дорога», а образ иссеченной музы – к произведению «Вчерашний день, часу в шестом…». Приведем этот короткий текст полностью: Вчерашний день, часу в шестом, // Зашел я на Сенную; // Там били женщину кнутом , // Крестьянку молодую. // Ни звука из ее груди, // Лишь бич свистал, играя. .. // И Музе я сказал: «Гляди! // Сестра твоя родная!»
Благодаря умелому воспроизведению ритмических особенностей поэзии Н.А. Некрасова, а также интертекстуальным перекличкам «Молитвы…» с известнейшими некрасовскими произведениями, Е.А. Евтушенко в целом удачно стилизует авторскую манеру своего знаменитого предшественника и дает читателю отчетливое представление о сильных сторонах поэзии Н.А. Некрасова.
Микротекст, адресованный А. А. Блоку, представляет собой катрен, написанный разностопным ямбом:
О, дай мне, Блок, туманность вещую и два кренящихся крыла, чтобы, тая загадку вечную, сквозь тело музыка текла.
Данный фрагмент пронизан концептами и образами блоковской поэзии. Упомянутая Е.А. Евтушенко туманность вещая возникает как отражение важного для поэзии А. А. Блока образа тумана, представленного в ряде его текстов. Приведем две цитаты: Дыша духами и туманами , // Она садится у окна (Незнакомка); Как мучительно думать о счастье былом, // Невозвратном, но ярком когда-то, // Что туманная вечность холодным крылом // Унесла, унесла без возврата (Как мучительно думать о счастье былом…).
Е.А. Евтушенко не случайно включает в данный фрагмент «Молитвы…» существительные загадка и музыка . Эти слова являются именами ключевых для творчества А.А. Блока концептов. Поэт постоянно постигает тайны и загадки мироздания. Музыка для А.А. Блока – это тоже одна из загадок. Саму суть жизни поэт воспринимает через звуковые волны; музыка, разлитая вокруг, волнует и восхищает его: О, сколько музыки у Бога, // Какие звуки на земле! (В ночи, когда уснет тревога…). Чувствовать музыку (в том числе и музыку поэзии) так, как чувствовал ее А.А. Блок – великое счастье, к которому стремится лирический герой Е.А. Евтушенко.
Итак, интертекстуальная перекличка с произведениями А. А. Блока устанавливается в анализируемом фрагменте прежде всего при помощи аллюзий.
Микротекст, обращенный к Б.Л. Пастернаку, представляет собой блестящий образец воспроизведения идиостилевых особенностей поэта:
Дай, Пастернак, смещенье дней, смущенье веток, сращенье запахов, теней с мученьем века, чтоб слово, садом бормоча, цвело и зрело, чтобы вовек твоя свеча во мне горела.
На наш взгляд, интертекстуально данная строфа теснее всего связана со знаменитым стихотворением Б.Л. Пастернака «Зимняя ночь». Наблюдается тонкая ритмическая и содержательная подстройка к этому тексту. «Зимняя ночь» написана разностопным ямбом с чередованием восьми- и пятисложных строк. Напомним начало этого прецедентного текста: Мело, мело по всей земле // Во все пределы. // Свеча горела на столе, // Свеча горела . Аналогичным образом выглядит ритмическая структура микротекста, обращенного к Б.Л. Пастернаку, у Е.А. Евтушенко. В интертекстуальном плане рассматриваемую строфу из «Молитвы перед поэмой» Е.А. Евтушенко и «Зимнюю ночь» Б.Л. Пастернака сближает парафраз чтобы вовек твоя свеча во мне горела . Данную фигуру интертекста нельзя не признать удачной, поскольку в ее основе лежит одно из самых известных высказываний Б. Л. Пастернака, содержащее яркий поэтический символ – символ свечи как знака духовного горения. Воздействующий эффект от использования парафраза возрастает благодаря расположению данной фигуры в сильной позиции конца стихотворной строфы.
Интертекстуальная перекличка между произведениями Е.А. Евтушенко и Б.Л. Пастернака обеспечивается также благодаря использованию образа сада. Данный образ является очень важным для поэзии Б.Л. Пастернака и представлен в целом ряде его текстов. Приведем лишь несколько цитат: «Про- стор вселенной был необитаем, И только сад был местом для житья» (Гефсиманский сад); «Как бронзовой золой жаровень, Жуками сыплет сонный сад. Со мной, с моей свечою вровень Миры расцветшие висят» (Как бронзовой золой жаровень…); «Давай ронять слова, Как сад – янтарь и цедру, Рассеянно и щедро, Едва, едва, едва» (Давай ронять слова…).
Завершая анализ данного микротекста, отметим, что Е. А. Евтушенко удачно стилизует пастернаковскую метафорику ( смущенье веток , мученье века ; слово, садом бормоча, цвело и зрело ). В целом анализируемая строфа, благодаря уместному использованию фигур интертекста и других изобразительно-выразительных средств, дает читателю яркое представление об особенностях идиостиля Б.Л. Пастернака.
Микротекст, обращенный к С.А. Есенину, представляет собой катрен, написанный четырехстопным ямбом:
Есенин, дай на счастье нежность мне к березкам и лугам, к зверью и людям и ко всему другому на земле, что мы с тобой так беззащитно любим.
Начальный стих данного фрагмента содержит парафраз первой строки известного стихотворения С.А. Есенина «Собаке Качалова»: Дай , Джим, на счастье лапу мне … Во втором стихе рассматриваемого катрена из «Молитвы перед поэмой» перечисляются наиболее яркие образы есенинской поэзии. Так, березка , по сути, является сквозным образом для творчества С.А. Есенина и представлена во множестве его текстов, хорошо знакомых российским читателям. Приведем несколько цитат: Белая берёза // Под моим окном // Принакрылась снегом, // Точно серебром (Береза); Зеленая прическа, // Девическая грудь, // О тонкая березка , // Что загляделась в пруд? (Зеленая прическа…); Я навек за туманы и росы // Полюбил у березки стан, // И ее золотистые косы, // И холщовый ее сарафан (Ты запой мне ту песню, что прежде…).
Таким образом, интертекстуальные связи «Молитвы…» Е.А. Евтушенко и произведений С.А. Есенина устанавливаются с участием парафраза и серии аллюзий.
Микротекст, адресованный В. В. Маяковскому, имеет в своей основе ритмическую модель разностопного ямба и выстроен в виде знаменитой «лесенки», усиливающей акцентное звучание стиха:
Дай, Маяковский, мне глыбастость, буйство, бас, непримиримость грозную к подонкам, чтоб смог и я, сквозь время прорубясь, сказать о нем товарищам-потомкам...
В интертекстуальном плане приведенный фрагмент перекликается прежде всего с поэмами В.В. Маяковского «Облако в штанах» и «Во весь голос». Скажем об этом подробнее. Использованный Е.А. Евтушенко окказионализм глыбастость, вероятнее всего, представляет собой аллюзию к строкам «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется!» (Облако в штанах). Кроме того, здесь, возможно, содержится намек на ярко выраженную склонность В.В. Маяковского к индивидуальному словотворчеству. Существительные буйство, бас не только отражают поведенческие и речевые характеристики поэта (необузданный нрав, громкий голос), но и одновременно аллюзив-но отсылают читателя к прецедентным высказываниям (в частности: Мир огромив мощью голоса, иду ‒ красивый, двадцатидвухлетний. – Облако в штанах). Метафорическое словосочетание сквозь время прорубясь – аллюзия к строкам В. В. Маяковского Мой стих // трудом// громаду лет прорвет// и явится// весомо, // грубо, // зримо… (Во весь голос). Не вызывает сомнений текстовая принадлежность аппликации товарищам-потомкам, поскольку это обращение неоднократно используется в поэме «Во весь голос» (Уважаемые товарищи потомки!; Слушайте, // товарищи потомки, // агитатора, // горлана-главаря).
В целом в анализируемом фрагменте «Молитвы перед поэмой», на наш взгляд, великолепно переданы идиостилевые характеристики поэзии В. В. Маяковского, которого Е.А. Евтушенко не только высоко ценил, но и считал одним из своих непосредственных учителей.
«Молитва перед поэмой» обнаруживает высокий интертекстуальный потенциал не только как текст-реципиент, но и как текст-донор. Начальная строка произведения «Поэт в России – больше, чем поэт» давно стала крылатой и приобрела характер чрезвычайно популярного прецедентного высказывания. Об этом убедительно свидетельствует, в частности, следующий факт: 1 марта 2015 г. на соответствующий запрос поисковая система «Яндекс» выдавала в общей сложности 13 миллионов ответов.
Подведем итоги. «Молитва перед поэмой» Е.А. Евтушенко – это текст с ярко выраженными диалогичностью и интертекстуальностью. Диалогическая ориентация данного произведения определяется его близостью жанру послания, диалогическому по своей сути. Текстообразующую роль играет в произведении Е. А. Евтушенко такая фигура диалогизма, как риторическое обращение; стилистически значимыми являются также разнообразные морфологические показатели диалогичности (местоименные и глагольные).
«Молитва…» представляет собой смелый и весьма успешный интертекстуальный эксперимент Е.А. Евтушенко. В произведение включено семь микротекстов, обращенных к великим российским поэтам А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Н.А. Некрасову, А.А. Блоку, Б.Л. Пастернаку, С.А. Есенину, В.В. Маяковскому. Благодаря ритмической подстройке к произведениям данных авторов и удачному использованию фигур интертекста (аллюзий, аппликаций, парафразов), Е.А. Евтушенко умело воспроизводит идиостилевые особенности столпов русской поэзии и облекает в яркую поэтическую форму идею творческой преемственности.
Список литературы Диалогичность и интертекстуальность в поэтическом тексте (на материале «Молитвы перед поэмой» Е.А. Евтушенко)
- Баженова Е.А. Интертекстуальность//Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта-Наука, 2003.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Волков А.А. Фигуры диалогизма//Волков А. А. Основы риторики: учеб. пособие для вузов. М.: Академический проект, 2003.
- Дускаева Л.Р. Диалогичность газетных текстов 1980-1990 гг.: автореф. дис.. канд. филол. наук. Пермь, 1995.
- Дускаева Л.Р. Диалогичность как функциональная семантико-стилистическая категория//Очерки научного стиля русского литературного языка ХVIII -ХХ вв. Т. 2. Стилистика научного текста (общие параметры). Ч. 2. Категории научного текста: функционально-стилистический аспект. Пермь, 1998.
- Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров: дис. … д-ра филол. наук. Пермь, 2004.
- Кожина М.Н. Диалогичность письменной научной речи. Пермь, 1986.
- Кожина М.Н. Диалогичность как категориальный признак письменного научного текста//Очерки научного стиля русского литературного языка ХVIII-ХХ вв. Т. 2. Стилистика научного текста (общие параметры). Ч. 2. Категории научного текста: функционально-стилистический аспект. Пермь, 1998.
- Кожина М.Н., Дускаева Л. Р. Выражение диалогичности в естественнонаучных текстах//Стилистика текста в коммуникативном аспекте. Пермь, 1987.
- Колокольцева Т.Н. Диалог vs диалогичность в интернет-коммуникации. Глава 7//Интернет-коммуникация как новая речевая формация: коллект. монография/науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. М.: Флинта-Наука, 2012.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. Пер. с фр. Г. К. Косикова. М.: ИГ Прогресс, 2000.
- Москвин В.П. Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили. М.: URSS, 2011.
- Москвин В. П. Теория интертекстуальности: категориальный аппарат. Глава 1//Интертекстуальность и фигуры интертекста в дискурсах разных типов: коллект. монография/науч. ред. Т. Н. Колокольцева, В. П. Москвин. М.: Флинта-Наука, 2014.
- Москвин В. П. Фигуры интертекста//Москвин В. П. Стилистика русского языка. Теор. курс: учеб. пособие. Волгоград: Перемена, 2005.
- Орехова Д. В. Церковно-религиозный и политический типы дискурса через призму диалогичности (на материале жанра послания): дис.. канд. филол. наук. М., 2015.