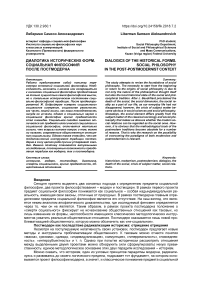Диалогика исторических форм. Социальная философия после постмодерна
Автор: Либерман Самсон Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
Работа представляет собой попытку пересмотра оснований социальной философии. Необходимость начинать с-начала или возвращаться к «началам» социальной философии продиктована не только сущностью самой философской мысли, но и локальным историческим состоянием социально-философской традиции. После продекларированной Ж. Бодрийяром «смерти социального» социальное измерение, социальная реальность как часть нашей жизни, как наша повседневность никуда не исчезла, однако в социальных науках и социальной философии кризис предметности стал очевиден. Социальное сегодня заметно отличается от предмета классической социологии и социальной философии, отличается настолько сильно, что всерьез встает вопрос о том, можно ли назвать современные общественные отношения социальными. Однако также очевидно, что методологический инструмент традиции постмодерна в силу целого ряда причин устаревает сегодня. Именно поэтому становятся актуальными исследования, посвященные возможности преодоления парадигм как модерна, так и постмодерна.
Историзм, модерн, постмодерн, диалогика, "смерть социального", кризис предметности, общественные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14941542
IDR: 14941542 | УДК: 130.2:930.1 | DOI: 10.24158/fik.2018.7.2
Текст научной статьи Диалогика исторических форм. Социальная философия после постмодерна
ПОСЛЕ ПОСТМОДЕРНА
Сегодня принято выделять два основных подхода к определению предмета социальной философии, два проекта философствования – модерн и постмодерн. В рамках первого проекта предмет социальной философии понимается как социальное – особая надындивидуальная реальность, имеющая свои законы, отличные от природных. В рамках постмодерна главным определением предмета социальной философии является его отсутствие. На наш взгляд, это является неким аналогом апофатического доказательства, где исследуемый феномен определяется через то, чем он не является. Таким образом, в рамках проекта постмодерна положение о «смерти социального» фиксирует не исчезновение общественных отношений как таковых, но лишь изменение их формы, неспособности имеющихся классических методологических инструментов ухватить реальные общественные отношения. Постмодерн оказывается лишь новой про-блематизацией общественного, которую можно обозначить как «не-социальное».
Постмодерн как последствие радикализации историзма: отрицание отрицания
Несмотря на постулируемую негативность своих установок, постмодерн предлагает новые методы и инструменты проблематизации общественного. К таковым можно отнести понятия «масса», «ризома», «дивид», «индивидуализация», «симуляция», «гиперреальность», «повседневность», «интерсубъектность» и т. п. Однако при попытке исторически рассмотреть отношения между выделенными двумя проектами можно обнаружить (или сформулировать) некую преемственность: единое методологическое основание этих двух парадигм исследования – историзм.
Можно сказать, что историзм, один из узловых принципов парадигмы модерна, радикализуясь и развиваясь до своего логического предела, подрывает тот фундамент, на котором основывается проект философии модерна, а значит, и классическое понимание предмета социальной философии. Таким образом, мы можем говорить о превращении истории и социального в а-ис-торическую современность и не-социальное. В основе обеих парадигм общества, несмотря на их очевидные и постулируемые различия, лежит один и тот же метод построения предмета – историзм. В первом случае мы имеем дело с диалектическим пониманием отношений трансцендентного и имманентного, всеобщего и единичного, во втором – с тотализацией имманентного и сопутствующей ей элиминацией трансцендентного [1].
Из этого мы можем сделать следующий вывод: современный кризис социальной философии, ее предмета напрямую связан с неадекватностью историзма как метода существующим сегодня феноменам и явлениям общественной жизни. Наблюдаемое сегодня противостояние условных «модернистов» и «постмодернистов» довольно точно описано авторами «Классики и современности» почти полвека назад. Когда современные философские построения «…срывают с буржуазной философской классики маску “классичности”, как бы “выговаривая” своим содержанием недоговоренности и упрятанные рационализации» [2, с. 30], а «объективно проанализированная классика срывает с современной буржуазной философии маску новаторства, выявляет кажущийся, иллюзорный характер самой ее “современности”» [3].
Предмет социальной философии после постмодерна
Мы предприняли попытку сформулировать иной относительно историзма метод построения предмета социальной философии, способный избежать противоречий модерна и постмодерна и исследовать прежде недоступные явления общественной жизни. Отличие от историзма заключается в признании сосуществования нескольких форм общественного в рамках одного исторического момента, или формации. Современность, таким образом, характеризуется не бесформенностью и бесструктурностью, но сосуществованием различных способов функционирования общественных отношений, которые сами при этом оказываются участниками особого рода отношений, именуемых в логике В.С. Библера диалогическими [4]. Речь идет в том числе об обнаружении в современном мире давно вроде бы ушедших и преодоленных форм общественного: феодальных, рабовладельческих, кровнородственных и многих других. Непосредственный участник отношений – индивид – вынужден переключаться между этими системами и формами. Дж. Ваттимо называет подобный опыт «опытом колебания» [5, с. 53].
Важно понимать, что речь не идет о колебании между различными социальными ролями или фреймами. Речь идет о разных способах построения отношений, о колебании не между элементами, но между системами. Можно сравнить этот опыт с владением несколькими языками. При этом подобные языковые системы не являются «мертвыми», они сами обладают субъектными характеристиками, В.С. Библер называл это «персонажностью» [6, с. 283]. Языки постоянно развиваются, причем развиваться они могут только через диалог с другими языками, через тех людей, которые существуют сразу в нескольких языковых системах. В современном мире поглощение одного языка другим практически невозможно, но не в силу замкнутости систем, а в силу их самодостаточности и оформленности. Сегодня практически любой язык оформлен не только в качестве устной речи, но и в письменной форме, в литературной и, что самое главное для современной ситуации, – в электронной. Как только язык перестает существовать исключительно в своих носителях и приобретает какую-либо независимую и самодостаточную оформленность, он оказывается недоступным для поглощения или снятия. Мало того, именно в силу этой оформленности подобные системы – и языковые, и общественные – могут оживать после долгих лет забвения.
Подобные языковым системам исторические формы общественного существуют единовременно. Так же как человек, владеющий несколькими языками, не забывает один, когда использует другой, так и человек, совершающий колебания к одной форме общественного, не уходит из другой. Эти системы существуют виртуально. Здесь не работает снятие, не работают необходимость и прогресс. Все исторические формы существуют сейчас, они развиваются и вступают в отношения друг с другом. Но одна система существует актуально, она активирована, а другие существуют потенциально.
В рамках концепции В.С. Библера это положение о полионтичности дополняется утверждением наличия единого «начала», явно имеющего метафизическую природу. Таким образом, «горизонтальные» отношения интерсубъективности разных систем оказываются дополненными «вертикальными» – отношением с трансцендентным. И диалог между ними возможен именно в силу их единой и общей обращенности вовне, к всеобщему началу, именно в этой устремленности они и могут развиваться и преодолевать свои рамки.
Этот метод предлагаем обозначить как диалогику исторических форм. Название метода напрямую отсылает к работам и идеям В.С. Библера, собственно все наше исследование представляет собой попытку применения и обоснования этого применения сформированной в рамках «школы диалога культур» методологии диалога или диалогики к общественному и его историческим формам. Суть метода можно сформулировать как признание необходимости постулирования всеобщего, или реального, признание устремлений и направленности к нему, с одной стороны, и признание собственной ограниченности и конечности, неспособности это всеобщее выразить или сформулировать – с другой. Благодаря второму положению мы в качестве исследователя ограничиваем свой риск впадения в догматизм и гипостазирования собственных идей, мы открыты другому. Благодаря первому положению у нас с другим есть общий предмет диалога.
Применительно к построению предмета социальной философии этот метод оборачивается признанием существования многих форм общественных отношений, существующих в виде замкнутых систем, или «миров», единовременно. Они находятся в замкнутом состоянии, но при этом только благодаря обращенности вовне и диалогу с другим развиваются и могут быть отделены друг от друга. Главным отличием от историзма является, если выражаться словами Ю. Хабермаса в их трактовке В. Фурсом, уход от парадигмы труда [7, с. 53] в классическом его понимании К. Марксом. В этом смысле эти системы не трудятся, не реализуют себя в предмете. Развитие происходит не благодаря снятию противоположностей в синтезе, но через обогащение смыслами при диалоге. Если переходить к примерам, то в XXI в. оказывается вдруг, что отношения «дара» или «азиатский способ производства» не могут быть сняты и синтезированы во что-то третье. Но они изменяются и обогащаются благодаря тем контактам, что происходят между разными формами отношений.
Заключение
Применение этого метода может позволить определить и исследовать те современные явления общественной жизни, которые зачастую ускользают от взгляда исследователя, вооруженного инструментарием только модерна или только постмодерна. Сегодня существуют явления, скорее относимые к уже преодоленным формам общественных отношений, вроде «около-фео-дальных» отношений и традиционных обществ, свойственных странам мусульманского мира. Классический историк или социолог склонен трактовать их как пережитки прошлого, отсталость наступления капитализма, и именно ему будет принадлежать термин «около-феодальный». Постмодернист же вполне может объявить эти феномены лишь еще одним симулякром в бесконечном поле симуляции и гиперреальности, «агонией больших нарративов» и т. д.
Эти феномены вполне реальны и существенны, и исламский мир не единственный в этом ряду. Появление этих феноменов можно связать с появлением «новых СМИ», работающих по принципиально иным законам, нежели привычные формы постмодернистского толка вроде «мас-совизации» или «индивидуализации». Появление интернет-пространства сделало возможным оформление всех, прежде маргинальных или устаревших, форм общественного. Дж. Ваттимо называет современный мир «миром диалектов» [8, с. 15], что отсылает нас к уже использованному сравнению с языковыми системами. Можно сказать, что интернет дал этим формам язык, позволил окончательно оформиться, и именно в этом пространстве они могут существовать не актуально, но виртуально. Феномен интернета интересен тем, что он скорее граничит и оформляет различные методы и способы, нежели смешивает их в «единое причудливое полотно» [9].
При этом подобные виртуальные формы представленности, характерные для интернет-пространства, качественно отличаются от привычных нам модерновых понятий роли или маски. В силу своей виртуальности они: а) не могут быть до конца воплощены и реализованы в силу своей неполноты; б) предполагают иные, другие формы [10]. Благодаря своей неполноте все эти формы остаются на своих местах, возникает разрыв и напряжение между моей представленностью в интернете и моей представленностью здесь. Происходит раздвоение или «растроение» и «расчетверение» субъекта. Снятие и синтез здесь невозможны ни в модерном понимании как опредмечивание и поступок, ни в постмодерном как нейтрализация и апатия.
Ссылки и примечания:
-
1. Гаспарян Д.Э. Социальность как негативность. М., 2007. 256 с.
-
2. Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в современном мире. М., 1972. С. 28–94.
-
3. Там же. С. 30.
-
4. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М., 1990. 413 с.
-
5. Ваттимо Дж. Прозрачное общество / пер. с итал. Д. Новикова. М., 2002. 128 с.
-
6. Библер В.С. Указ. соч. С. 283.
-
7. Фурс В. Социальная философия в непопулярном изложении. Вильнюс, 2006. 184 с.
-
8. Ваттимо Дж. Указ. соч. С. 15.
-
9. Очевидно, что противостояние между выделяемыми условно западным и исламским мирами началось не вчера, но сегодня это противостояние из партизанской войны локального характера переросло в мировое противостояние двух систем мышления, двух форм общественного, двух идеологий.
-
10. Поэтому, например, сегодня мировая победа пролетариата или искоренение неверных не может быть конечной целью противостояния. И когда мы говорим о противостоянии Запада и исламского Востока как о противостоянии идеологий, нужно понимать, что эти идеологии работают качественно иначе, нежели идеология в ее классическом понимании.
Список литературы Диалогика исторических форм. Социальная философия после постмодерна
- Гаспарян Д.Э. Социальность как негативность. М., 2007. 256 с.
- Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии//Философия в современном мире. М., 1972. С. 28-94.
- Библер В.С. От наукоучения -к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М., 1990. 413 с.
- Ваттимо Дж. Прозрачное общество/пер. с итал. Д. Новикова. М., 2002. 128 с.
- Фурс В. Социальная философия в непопулярном изложении. Вильнюс, 2006. 184 с.