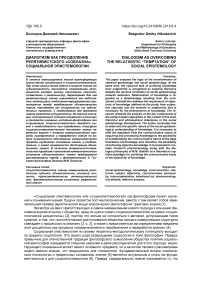Диалогизм как преодоление релятивистского "соблазна" социальной эпистемологии
Автор: Безгодов Дмитрий Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется логика трансформации классической гносеологии в социоэпистемологию. При этом классическая задача очищения знания от субъективности признается сохраняющей актуальность вопреки явному тяготению социоэпистемологии к релятивизму. Характерная для нее релятивизация знания оценивается как недостаток, являющийся следствием неразрешенного противоречия между требованием объективности знания, понимаемой как очищенность от субъективных примесей, и необходимым для феномена знания моментом субъектности. Из анализа ключевых составляющих субъект-объектной оппозиции в контексте основных историко-философских вех становления социоэпистемологии делается вывод о необходимости при определении специфики социоэпистемологического понимания знания перенести акцент с вопроса коммуникативной природы приобретения и переработки знания на вопрос возможности обоснования коммуникативной природы глубинного основания знания, а следовательно, и самой возможности достижения объективного знания. В качестве теоретико-познавательной парадигмы прояснения коммуникативного основания объективности знания предлагается рассматривать наряду с феноменологией Э. Гуссерля философию диалога М.М. Бахтина.
Социоэпистемология, знание, коммуникация, релятивизм, субъект, объективность, сознание, личность, трансцендентализм, интенциональный акт, феноменологическая установка, рефлексивный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149133785
IDR: 149133785 | УДК: 165.0 | DOI: 10.24158/fik.2018.8.4
Текст научной статьи Диалогизм как преодоление релятивистского "соблазна" социальной эпистемологии
«Социальная эпистемология» или «социоэпистемология» как философский проект изучения и понимания знания, будучи проектом постнеклассическим, вместе с тем являет собой замечательный пример эвристической мощи классических философских трактовок знания [1].
Несмотря на явно присутствующую в самом наименовании нового подхода к изучению феномена знания отсылку к обществу, вряд ли нужно сужать социоэпистемологию до рамок «социологической дисциплины» [2], притом что нельзя не согласиться с автором, допускающим такое сужение, в том, что «конститутивный для понимания общества процесс коммуникации структурно совпадает с процессом (по)знания» [3, с. 3], а также с предложенным им определением предмета этой дисциплины как процесса «коммуникативного приобретения и переработки знания» [4].
Социальная эпистемология по своему теоретико-методологическому потенциалу выходит за пределы социологии. Это своего рода возвращение социологии в лоно философии. Правда, привычное для отечественной традиции философского осмысления общества понятие социальной философии оказывается слишком широким и даже расплывчатым для этого подхода, акцентирующего социальный аспект своего основного предмета, но в качестве такового рассматривающего именно знание, что традиционно для гносеологии. Фундаментальный вопрос классической гносеологии о предельных основаниях знания [5] является актуальным и столь же фундаментальным и для социоэпистемологии [6]. Правда, парадигмально новым оказывается то, что эти основания предлагается искать в сферах, с точки зрения классической теории знания весьма далеких от основательности. Поэтому неслучайно, что релятивизм становится родовой приметой, искушением и парадоксальным источником развития для социоэпистемологии.
Некую психологическую убедительность релятивизм получает по логике доказательства от противного в противоречиях описания знания с позиции «естественной установки». Это «натуральное» описание процесса и результатов познания известно в философии под именами «натурализма», «дуалистического реализма», «наивного реализма», теории копирования или сенсуализма [7, с. 77; 8, с. 133; 9]. Однако логика релятивизма не выводит гносеологию из круга «натуралистических» противоречий, а попросту избегает их, теряя вместе с тем и сам искомый предмет – знание как видение субъектом действительности в свете истины [10]. И никакие прагматические резоны не могут восстановить статус знания в релятивистском контексте, ибо любой момент устойчивости, предпочтительности конкретного представления в потоке возможных, сменяющих друг друга мнений с необходимостью будет требовать обоснования, т. е. определенности безотносительно к изменчивому контексту, каким бы кратковременным ни был период актуальности данного контекста.
Поэтому в философском дискурсе по поводу знания всегда будет сохранять актуальность полюс жесткой «натуральной» оппозиции «субъект – объект». Может меняться степень приближения к полюсу, но обусловленная «естественной установкой» противопоставленность предмета познания внутреннему миру субъекта познания не может быть полностью элиминирована из необходимого контекста описаний феномена знания никакой релятивистской критикой. Дискуссии возможны лишь о конкретных моделях, интерпретациях знания и статусов субъекта и объекта. Соответствующие анализ и критика фактически наполнили собой историю философского изучения и понимания знания.
Одна из наиболее авторитетных современных концепций знания – концепция аналитической философии – резюмирует собственные исследования в дефиниции: знание есть обоснованное истинное убеждение [11, с. 61]. Эта дефиниция мало что добавляет к пониманию знания, представленному еще в «Теэтете» Платона, кроме, разумеется, отказа от принципиальной для платонизма отсылки к возможности интуиции истины или прямого умозрения идеи, т. е. предмета знания как он есть в действительности. Аналитическая философия лишь констатирует возможность конечного доброкачественного продукта – знания в «голове» познающего субъекта.
В Новое время Рене Декарт приближался к магистральному пути в поисках предельного основания знания, пути между «наивным реализмом», чуть позже ярко выраженным в философии Джона Локка, в которой схематизирована и абсолютизирована оппозиция субъекта и объекта, и релятивизме Дэвида Юма, который по софистической традиции пытался проигнорировать эту оппозицию, однако с неизбежностью вводил в свою модель сознания и знания момент предметности, предполагая объективацию в каждом акте рефлексии. Т. е. объект в гносеологии Юма, несмотря на весь его релятивизм, присутствует, правда, посредством философской контрабанды. Однако Юм, как известно, пробуждает от догматического сна Иммануила Канта, который, наконец, пытается преодолеть очевидные противоречия сенсуализма или наивного реализма и вместе с этим избежать скандальной, с его точки зрения, Юмовой релятивизации знания, а значит, и релятивизации науки [12, с. 322].
В кантовском трансцендентализме находят возможность примирения активность субъекта и объективный статус результатов его активности – собственно знания.
Кант вполне серьезно полагает, что наряду с логикой Аристотеля открыл еще одну сферу неизменных ментальных форм и что вполне возможна их исчерпывающая классификация, так что впоследствии науке останется только придерживаться ее и немного корректировать, если были допущены аналитические ошибки при ее составлении.
Таким образом, в философии Канта «природа» гносеологического субъекта (а только о гносеологическом субъекте и имеет смысл говорить в контексте субъект-объектной оппозиции) получает свое объективное обоснование, но при этом выносится за скобки научного познания, а значит, и перестает быть «природой» в опытном, научном смысле этого понятия, получая лишь статус особого – трансцендентального – предмета [14, с. 125].
Эдмунд Гуссерль полагал, что Кант своим трансцендентализмом ввел неоправданные ограничения в изучение сознания. Феноменология Гуссерля – это новая стратегия выхода теории знания, сознания и познания из прокрустовой дилеммы «натурализма» и «релятивизма» [15]. Гуссерль радикально выводит методы и дискурсивные практики естественных наук за пределы философского интереса к феномену знания. Он методически «отключает» естественную установку и далее уже фиксирует такие предпосылки знания в жизненном мире человека, которые опознаются как смысловой фундамент этого знания.
Сознание Гуссерль описывает как поток интенциональных актов. Интенциональный акт представляет собой имманентную направленность, а значит, и предметность любого акта сознания. Гуссерль предлагает различать так называемые ноэматическую и ноэтическую стороны ин-тенциального акта. Ноэматическая сторона (или ноэма) являет собой смысл, открываемый в предмете в ходе данного акта; ноэтическая сторона (ноэза) представляет собой содержание той своеобразной «работы», которая осуществляется сознанием в интенциональном акте. В результате рефлексивного анализа могут быть раскрыты составляющие анализируемого интенционального акта, посредством которых в конечном счете конституируется смысл на предметном полюсе интенционального акта [16; 17, с. 15].
Познание явлений действительности в феноменологической установке осуществляется как рефлексивный анализ конституции смысла. (Принципиально важно понимать, что речь идет о стратегии познания, параллельной естественно-научной, хотя и лежащей, по убеждению Гуссерля, в основе всех форм и стратегий познания, но так, что каждая форма и стратегия могут быть заключены в скобки и реализовываться и изучаться автономно.) Результатом феноменологического процесса познания становится дескрипция феномена, который конституируется сознанием как смысл или ноэматический полюс интенционального акта или множества интенциональных актов. И следующая задача познания формулируется как рефлексивный анализ второго порядка. Т. е. далее происходит интендирование или ноэматизация всех ноэтических составляющих исходного интенционального акта [18].
Если феномен мечты, например, получил описание как предвосхищение обладания желательным благом, волевое удержание в сознании его образа и доставляющее удовольствие созерцание этого образа, то познавательной задачей следующего порядка становится рефлексивный анализ таких ноэтических составляющих акта мечты, как желание, представление, удовольствие от созерцания, переживание обладания, воля к продлению представления и т. д. Все эти ноэтические аспекты интенциональных актов, конституирующих смысл мечты, на новом уровне познания сами интендируются как ноэматический полюс интенциональных актов следующего порядка, как новые феномены, подлежащие рефлексивному анализу с целью феноменологической дескрипции.
Дальнейшее углубление процесса познания потребует рефлексивного анализа третьего порядка [19]. Логичный вопрос о точности дескрипции с неизбежностью претворяется в вопрос о некой предметной глубине, некоем ментальном истоке потока интенциональных актов, который сам, в свою очередь, должен стать предметом рефлексивного анализа. Так поставленный вопрос возвращает нас к классической проблеме самосознания, а точнее, познания центральной инстанции познавательной деятельности человека. И здесь выясняется, что описанная схема феноменологического анализа, при всем приближении к искомому предмету, задачи не решает, поскольку ноэматизация источника интенциональных актов по сути означает его опредмечивание, т. е. предъявление не в собственном виде. На этом уровне феноменологическая редукция ситуацию не спасает, поскольку здесь следует избежать не только естественной установки или натурализации феномена, но «созерцания» феномена, которое превращает его в предмет созерцания. А он, для его подлинного понимания, должен быть как-то схвачен в своей действительности живого активного источника интенциональных актов. Особого внимания заслуживает опыт концептуализации интуиции личности как такого живого источника сознания, проделанный русским философом В.И. Несмеловым в его труде «Наука о человеке» [20, с. 12].
Таким образом, сама логика феноменологического метода требует включения в свой арсенал позиции другого субъекта как самостоятельного потока сознания, как источника интенциональных актов и познавательных усилий, способного к видению, удостоверению и познанию самобытной активности искомого субъекта познания. Понятно, что позиция другого не должна быть объективирующей, поскольку к объективации собственного сознания способен и сам искомый субъект, но этот способ познания как раз и является ложным, представляющим искомый центр интенциональных актов не в собственном живом виде. Другому активность сознания должна быть как-то открыта: условно непосредственно, не как свое собственное сознание, но и не как объективированный, натурализованный предмет. Как этого добиться, учитывая как минимум телесную опосредованность другого, – этому вопросу посвящена вся сложная аналитика интерсубъективности Гуссерля [21, с. 94; 22, с. 383]. Именно эта проблематика предопределила своеобразный бум феноменологии в социологии. И учитывая постановку проблемы, можно утверждать, что Альфред Шюц, например, создает феноменологическую социологию не столько потому, что метод феноменологии представляется ему наиболее адекватным для изучения общества, сколько потому, что фундаментальная проблема феноменологии – проблема достоверности, проблема объективной обоснованности знания – для своего решения требует выхода в социальное пространство, понимания условий адекватности межличностных коммуникаций [23]. Соответствующий анализ требует различения собственного центра сознания («личность», «я») и своего достояния. Примеры последовательного проведения такового различения дают социология Джорджа Мида [24, с. 36] или гносеология Н.О. Лосского [25, с. 100]. В таких и подобных им исследованиях создаются теоретические предпосылки для становления социоэпистемологии, которую автор предлагает понимать как принципиально нерелятивистскую модель коммуникативной основы знания.
Релятивистская модель коммуникации по поводу результатов познания полагает возможность межличностного обмена информацией об автономных системах (или просто множествах) знаний или ценностей, которыми располагают автономные личности. При этом релятивизм принципиально отвергает какую-либо возможность объективного анализа таких систем, тем более их обоснования в свете интуиции истины. В рамках этой модели согласие возможно лишь как результат случайного совпадения мнений либо некоего иррационального «заражения» мнениями другого [26, с. 192].
В предлагаемой автором модели социоэпистемологии «заинтересованный в диалоге другой» выполняет функцию инстанции, подтверждающей фундаментальное значение личности как источника интенциональных актов сознания. Наиболее релевантными данной модели базовыми теориями личности и межличностной коммуникации представляются православный персонализм В.И. Несмелова и философия диалога М.М. Бахтина [27].
Ссылки:
-
1. Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / под общ. ред. И.Т. Касавина. М., 2010. 712 с.
-
2. Антоновский А.Ю. Социоэпистемология: о пространственно-временных и личностно-коллективных измерениях общества. М., 2011. 400 с.
-
3. Там же. С. 3.
-
4. Там же.
-
5. Франк С.Л. Предмет знания. М., 1995. 656 с.
-
6. Антоновский А.Ю. Указ. соч. ; Социальная эпистемология …
-
7. Франк С.Л. Указ. соч. С. 77.
-
8. Гуссерль Э. Философия как строгая наука / сост., подгот. текста и примеч. О.А. Сердюкова. Новочеркасск, 1994.
-
9. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1 / пер. с нем. А.В. Михайлова ; вступ. ст. В. Куренного. М., 1999. 311 с.
-
10. Франк С.Л. Указ. соч.
-
11. Антоновский А.Ю. Указ. соч. С. 61.
-
12. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой : учеб. пособие для вузов. М. ; СПб., 2000. 456 с. 13. Там же. С. 319.
-
14. Кант И. Сочинения : в 6 т. Т. 3 / под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзерман. М., 1964. 799 с.
-
15. Гуссерль Э. Философия как строгая наука.
-
16. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии …
-
17. Эмбри Л. Рефлексивный анализ. Первоначальное введение в феноменологию. М., 2005. 225 с.
-
18. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии … ; Эмбри Л. Указ. соч.
-
19. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии … ; Эмбри Л. Указ. соч.
-
20. Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 1. Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. СПб., 1905. 422 с.
-
21. Социальная эпистемология … С. 94.
-
22. Гуссерль Э. Картезианские медитации // Гуссерль Э. Избранные работы / сост. В.А. Куренной. М., 2005. 464 с.
-
23. Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М., 2004. 1056 с.
-
24. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб., 2000. 272 с.
-
25. Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М., 1991. 624 с.
-
26. Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 2 : пер. с древнегреч. / общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи ; примеч. А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи. М., 1993. 528 с.
-
27. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. 320 с. ; Безгодов Д.Н. Диалогический персонализм М.М. Бахтина // Инновационные процессы в научной среде : материалы междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. / под общ. ред. А.И. Вострецова. София, 2017. С. 352–362 ; Несмелов В.И. Указ. соч.
358 с.
Список литературы Диалогизм как преодоление релятивистского "соблазна" социальной эпистемологии
- Социальная эпистемология: идеи, методы, программы/под общ. ред. И.Т. Касавина. М., 2010. 712 с.
- Антоновский А.Ю. Социоэпистемология: о пространственно-временных и личностно-коллективных измерениях общества. М., 2011. 400 с.
- Франк С.Л. Предмет знания. М., 1995. 656 с.
- Гуссерль Э. Философия как строгая наука/сост., подгот. текста и примеч. О.А. Сердюкова. Новочеркасск, 1994. 358 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1/пер. с нем. А.В. Михайлова; вступ. ст. В. Куренного. М., 1999. 311 с.
- Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: учеб. пособие для вузов. М.; СПб., 2000. 456 с.
- Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 3/под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзерман. М., 1964. 799 с.
- Эмбри Л. Рефлексивный анализ. Первоначальное введение в феноменологию. М., 2005. 225 с.
- Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 1. Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. СПб., 1905. 422 с.
- Гуссерль Э. Картезианские медитации//Гуссерль Э. Избранные работы/сост. В.А. Куренной. М., 2005. 464 с.
- Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М., 2004. 1056 с.
- Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб., 2000. 272 с.
- Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма//Лосский Н.О. Избранное. М., 1991. 624 с.
- Платон. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2: пер. с древнегреч./общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; примеч. А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи. М., 1993. 528 с.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. 320 с.
- Безгодов Д.Н. Диалогический персонализм М.М. Бахтина//Инновационные процессы в научной среде: материалы междунар. (заоч.) науч.-практ. конф./под общ. ред. А.И. Вострецова. София, 2017. С. 352-362.