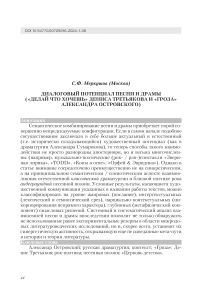Диалоговый потенциал песни и драмы («Делай что хочешь» Дениса Третьякова и «Гроза» Александра Островского)
Автор: Меркушов С.Ф.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Семантическое комбинирование песни и драмы приобретает порой совершенно непредсказуемые конфигурации. Если в самом начале подобное сосуществование заключало в себе больше актуальный и естественный (т.е. исторически складывающийся) художественный потенциал (как в драматургии Александра Сумарокова), то теперь способы такого взаимодействия не просто разнородны апостериори, но и весьма многочисленны (например, музыкально-поэтические (рок- / рэп-)спектакли «Звериная лирика», «TODD», «Копы в огне», «Орфей & Эвридика»). Однако в статье внимание сосредоточено преимущественно не на синкретическом, а на принципиальном семантическом / семиотическом аспекте взаимовлияния отечественной классической драматургии и близкой поэтике рока андеграундной песенной поэзии. Условные результаты, касающиеся художественной коммуникации указанных в названии работы текстов, можно классифицировать на уровне жанровых (послание), интертекстуальных (лексический и семиотический срез), парциально-контекстуальных (инкорпорирования непрямого характера), глубинных (метафизический компонент) смысловых решений. Системный и систематический анализ взаимосвязей песни и драмы впоследствии позволит не только обнаружить не использованные ранее экспериментальные резервы в области межродовых литературоведческих исследований, но и, скорее всего, установит их синергетическую активность, открывающую еще не изведанные мета-пути в истории и теории литературы.
Александр островский, русская драматургия, контекст, «гроза», денис третьяков, рок-поэтика, песенная поэзия, «церковь детства»
Короткий адрес: https://sciup.org/149145262
IDR: 149145262 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-38
Текст научной статьи Диалоговый потенциал песни и драмы («Делай что хочешь» Дениса Третьякова и «Гроза» Александра Островского)
Художественная сопредельность поэзии и драматургии подтверждена эстетически и исторически – достаточно вспомнить об изначальном единстве обеих литературных форм. Их перманентное стремление к внутреннему и внешнему синтезу вряд ли нуждается в продолжительной аргументации: укажем лишь на ключевые аутентичные книги и статьи Ч. Добре-ва [Добрев 1983], В.Е. Хализева [Хализев 1986], В.И. Тюпы [Тюпа 2011, 2014], О.В. Журчевой [Журчева 2008, 2020], Ю.В. Доманского [Доман-ский 2021].
Рассмотрение драмы и песни в общем контексте также представляется вполне оправданным по ряду причин. В классической и неклассической драме, например, давно стало частотным применение многообразных песенных вставок – и народных и авторских; научный же многоаспектный разговор о таком «сверхсинтетическом явлении, каковым является музыкальный театр» [Музыка и сцена… 2022], ведется на международном уровне (см.: [Музыка и сцена… 2022]). Можно отметить и фактор сопря- женности того и другого типа словесности по принципу совпадения универсалий, с помощью которых они описываются. Это универсалии лими-нальной, пороговой семантики, которая также присутствует в разнообразных экспликациях «пограничности» как таковой. «Связность», «когезия», «диалогичность», «эффект драматизации», «перформативность», «миме-тичность», «ритуальность», «мифологизация» – некоторые номинативные образцы такой терминологической коммуникации, обнаруженные в названных выше предметных исследованиях.
Стихотворно-песенная парадигма кажется наиболее иллюстративной и динамичной в плане экспонирования главных тенденций, связанных с концептуализацией «трансгрессии» в различных соответствующих областях: поэтологии и металирики, субъектности, партиципации, интермеди-альности. Однако, например, масштабируемая в новейшей печатной / песенной поэзии проблема снятия там категории лирической субъективности [Гольбурт 2017] может решаться и в драматургии, будучи релевантной ее лиминальным моделям. В драматургических текстах (и спектаклях) на многих ярусах, от сюжета до костюмов, декораций, хореографии, конструируется среда беспокойства и неустойчивости, за счет чего трансформируется не столько восприятие текста / спектакля читателем / зрителем, сколько ощущение реципиентом самого себя как субъекта / объекта. Речь идет в том числе о ситуации соотнесенности драматургического текста, песенного текста и реципиента, существующих практически в едином, партиципаторном, смысловом поле, где между названными сущностями отсутствует видимая граница.
Наконец, факт анарративности / миметичности драмы и песни как типов высказывания [Тюпа 2011, Смирнов 2020] открывает потенциал взаимосвязанного синтетического их рассмотрения. Поэтому, вслед за авторами, поставившими и разработавшими проблему изоморфизма песни и драмы с точки зрения критерия вариативности [Доманский 2006], интересно понаблюдать за спецификой симбиотических отношений названных жанрово-родовых типов в их интертекстуальных / семиотических акциденциях.
Эффективной кажется практика сопоставления, на первый взгляд, кардинально далекого друг от друга материала – близкой поэтике рока андеграундной песенной поэзии и классической драматургии, – в нашем случае текста песни Дениса Третьякова (группа «Церковь детства») «Делай что хочешь» и драмы Александра Островского «Гроза». Полагаем, подобный двусторонний опыт может многое дать в плане дальнейшего гетерогенного исследования произведений разных типов художественности, обоснованием же такого выбора послужит прежде всего интертекстуальный абрис песни, который сразу считывается реципиентом, хорошо знакомым с пьесой Александра Островского. Приведем текст «Делай что хочешь» полностью (по фонограмме – без традиционной пунктуационной и пр. маркировки; см.: [«Церковь детства». К святым местам 2015]), а затем покажем, как осуществляется взаимная проекция двух текстов и как вследствие такой кодификации обогащаются паттерны современной песенной поэзии и классической драмы:
тебе корабли уходящие вдаль не протрубят и самолеты взлетев не помашут крылом рядом с тобою обыкновенные люди и несожженный старый родительский дом ночью когда ты к дьяволу тянешь ладошки и проклинаешь беды прошедшего дня шпильки и колкости злые тычки и подножки пусть же умрут все кто обидел тебя ночью во тьме и в тишине голос невинный слушай голос невидимый слушай делай что хочешь милая девочка но не губи свою душу но не губи свою душу ночь это место где ты навсегда заблудилась где никого не осталося рядом с тобой но ночь это боль что в сердце цветком распустилась и расцвела ночь это боль лежа во тьме на животе голос невинный слушай голос невидимый слушай делай что хочешь милая девочка но не губи свою душу но не губи свою душу тебе корабли уходящие вдаль не протрубят и самолеты взлетев не помашут крылом
Перед нами модифицированная экспликация адресной / диалогической лирики. И здесь не так интересно, к какому ее жанру тяготеет текст, тем более что вопрос редукции границ жанров адресной лирики исследовал полвека назад М.Л. Гаспаров [Гаспаров 1968]. Знаменателен аспект консервативности и при этом жизнеспособности этих жанров [Кихней 1989], что позволяет говорить о несомненной детерминированности жанровой альтернативы Дениса Третьякова, в чем видится отмеченная установка на межродовой и межэпохальный диалог.
Шансонно-вальсовая основа музыкального сопровождения песни «Делай что хочешь» также представляется неслучайной, и не только по причине маятникообразных, «вращающихся» танцевальных схем вальса, сочетающихся с неоднозначностью, амбивалентностью мотивики пьесы
«Гроза». Стиль вальса долгое время вызывал «бурю негодования у ревнителей строгой морали» [Дегтярева 2012, 172], а сам танец соизмерялся с приоритетами «девиц легкого поведения…» (цит. по: [Дегтярева 2012, 173]), что по логике объективной модальности может коррелировать с противоречивостью образности Островского.
Прецедентное взаимодействие с классиком начинается оригинально. Первые две строки текста песни можно воспринимать как реминисценцию / парафраз знаменитого финала «Сказки о Военной тайне, о Мальчи-ше-Кибальчише и его твердом слове» Аркадия Гайдара: «Плывут пароходы – привет Мальчишу! / Пролетают летчики – привет Мальчишу!» [Гайдар 2023, 20]. Адресат песни никак физически не обнаруживает себя ни в водной стихии, ни в воздушной: сочетания «тебе корабли уходящие вдаль не протрубят / и самолеты взлетев не помашут крылом» также параллельны некоторым узловым сентенциям «Грозы», например, «Вот красота-то куда ведет. (Показывает на Волгу.) Вот, вот, в самый омут»; «Отчего люди не летают!» [Островский 2020, 51, 48]. Особенно показательны в предпочитаемом интерпретационном контексте обоих произведений реплики главной героини пьесы:
К а т е р и н а. Что мне только захочется, то и сделаю.
К а т е р и н а. <…> В окно выброшусь, в Волгу кинусь [Островский 2020, 57] (шрифт наш – С.М.).
Одновременно с аллюзией к Гайдару и пропорционально ей в текст песни вводится такой неожиданный источник как герметическая литература, но в т.н. «советском изводе». Советское мифотворчество дало особый публикационный дискурс, где, согласно А.Ф. Лосеву, персонифицировался некий новый «мистериальный хронотоп» [Барковская 2002, 79] с иносказательной парадигматикой. Там «“копошатся гады контрреволюции”, “воют шакалы империализма”, “оскаливает зубы гидра буржуазии”, “зияют пастью финансовые акулы”, и т. д. <…> и в этой тьме – “красная заря” “мирового пожара”, “красное знамя” восстаний…» [Лосев 2001, 125]. Обрамляемая подобными фантазмами общая космогоническая картина переплетается с аксиологией непреложности детских / подростковых инициатив в революционной борьбе, равно как и перекликается с ранней идеологией Дениса Третьякова об «инфантициде» и высокой роли детства в противостоянии сил света и тьмы [Смирнов, Калиничев, Оболонкова 2004]. О многослойном семантическом / семиотическом устройстве своих песенных текстов наряду с их общей эзотерической образностью / знаковостью говорил сам автор [«Церковь детства»: магия сейчас…]; это находит подтверждение в научных работах [Маркелова 2007; Меркушов 2021], становится заметным при углубленном прослушивании записей «Церкви детства» и сайд-проектов. Притчевый «объектив» классической драмы и советской сказки для детей способствует считыванию и двух семантически взаимодополняемых «стратегий» самоубийства как героического гно- стического самопожертвования – экспликативно (в случае Кибальчиша) и импликативно (в случае Катерины).
Помимо центральной симметричной названию «ударной формулы» [Доманский 2023, 6–22] («делай что хочешь») рефрен песни традиционно генерируется несколькими актуализирующими смыслы всего текста магистральными, стержневыми, фразами. Опорные константные лексические конструкции «голос невинный слушай / голос невидимый слушай / делай что хочешь милая девочка / но не губи свою душу / но не губи свою душу» семантически и структурно эквивалентны функциональным фрагментам «Грозы»:
К а т е р и н а. А то, бывало, девушка , ночью встану <…> да где-нибудь в уголке и молюсь до утра . <…> А какие сны мне снились <…> все поют невидимые голоса <…>.
К а т е р и н а. <…> точно мне лукавый в уши шепчет , да все про такие дела нехорошие. Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует [Островский 2020, 49–50].
В а р в а р а. <…> А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было [Островский 2020, 56] (шрифт наш – С.М.).
Оборот текста песни «несожженный старый родительский дом» увязывается с целым рядом хрестоматийных монологов / диалогов и мотивов пьесы Островского – от диалога Катерины и Варвары о лжи и замалчивании, на чем «весь дом <…> держится» [Островский 2020, 56], до разноплановых эпизодов / монологов, интегрированных с рецепцией дома как старого порядка [Островский 2020, 63], неволи / дома Кабановой и воли / храма [Островский 2020, 48–49], ключа как окончательной возможности бегства в грех [Островский 2020, 65–66] и пр. Семиозис песни семантически коммутирован с трактовкой рождения греха в душе Катерины. Сквозь призму «учения о прилоге» можно истолковывать как непосредственно образ Катерины в «Грозе» (см.: [Ужанков 2017]), так и песенный образ. Если во втором куплете показана отправная фаза – возникновение греха («ночью когда ты к дьяволу тянешь ладошки»), то в третьем – его завершающая стадия, созревание («ночь это место где ты навсегда заблудилась / где никого не осталося рядом с тобой // «Ночи, ночи мне тяжелы! Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего, а мне как в могилу. Так страшно в потемках! Шум какой-то сделается, и поют, точно кого хоронят; только так тихо, чуть слышно, далеко, далеко от меня...» [Островский 2020, 103]; «но ночь это боль что в сердце цветком распустилась / и расцвела ночь это боль» // «Что ни увижу, что ни услышу, только тут (показывая на сердце) больно» [Островский 2020, 103]).
Оптимальной опорой для компаративного метода являются архетипические культурные матрицы, а предпосылкой сравнительного анализа – мнение о гомологической органике социально-исторического развития человечества. Потому предлагаемый вариант интерпретации не противоречит истории создания песни и клипа, опубликованной в 2021 г. (спустя шесть лет после официального выхода песни «Делай что хочешь» на альбоме «К святым местам» 2015 г.). Хотя Денис Третьяков не ссылается в своем рассказе на Александра Островского [Третьяков 2021], все же коммуникативное поле «Грозы» расширяется. Несмотря на иную творческую подоплеку, семиотика видеорядов клипа на песню частично, но отчетливо согласуется с эмблематикой пьесы (даже под углом противопоставления – смерть от огня // смерть от воды): чередование рисованных и кинематографических блоков с знаковыми доминантами ветхости (дом), водной среды (море, лодка), пространства греха / искупления (изображение дьявола; знак рыбы как символ ранних христиан – акроним имени Иисуса Христа ихтис) [«Церковь детства». Делай что хочешь].
Сильные позиции текста песни – первые строки первых трехстиший обоих рефренов при полном дублировании остальных их частей не совпадают. Строка «ночью во тьме и в тишине» – развернутая аллегория синхронного пребывания субъекта / адресата в царстве дьявола («во тьме») и с богом / Христом («в тишине»), хотя лексемы «ночь» и «тьма» формально предшествуют лексеме «тишина». Вопреки такому промежуточному положению процесс развития греха уже запущен. Семантика начала второго рефрена «лежа во тьме на животе» предусматривает снятие лимбической дилеммы: адресат теперь всецело «во тьме». Использование будто бы факультативного уточнения «на животе» фактически помогает констатировать тотальность и бесповоротность падения героя – известно восточное поверье о том, что на животе спят люди, скрывающие свою греховность и вступившие на путь духовной гибели (прозрачна «этимологическая» полисемия живот / жизнь ). В таком контексте персонализируются и Катерина, и Варвара:
К а т е р и н а. Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу .
В а р в а р а. Ты какая-то мудреная, бог с тобой ! А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было [Островский 2020, 56] (шрифт наш – С.М.).
В результате наряду с многократно обсуждаемыми нюансами, касающимися парно-полярной субстанциальности персонажей «Грозы» (например, Борис и Катерина // Кудряш и Варвара), выявляются мета-аналогии между образами дьявола / лукавого и Варвары:
К а т е р и н а. <…> Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь . В а р в а р а. Да не думай, кто ж тебя заставляет?
К а т е р и н а. <…> Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал . Ведь я было из дому ушла [Островский 2020, 56] (шрифт / подчеркивание наши – С.М.).
Если в приводимых выше пассажах Катерины о ночном голосе угадывается, что речь все-таки о голосе лукавого, то в песне невинный и невидимый голос вроде бы однозначно имеет положительную коннотацию как глас Божий. Он не оставляет человека даже во грехе, бесконечно прося, увещевая «делай что хочешь <…> но не губи свою душу». С другой стороны, голос может принадлежать и анти-сущности. Главный принцип Те-лемы (учения английского представителя контркультуры, оккультиста и мага Алистера Кроули) «Do what thou wilt» дословно переводится на русский язык как «Делай что хочешь» (литературно – «Твори свою волю»). В кроулианском контексте «ударная фраза» песни обретет иной смысл, во многом соотносящийся с глобально бунтарским характером упомянутого учения, ибо «Do what thou wilt» – это «secret fourfould word» / «тайное четверичное слово», «the blasphemy against all gods of men» / «конец всем богам человеческим» [Кроули 2005, 68, 69]. Между тем семантический экстремум ключевого вербального решения песни заключен все же в императиве «но не губи свою душу». Вновь бинарная зона смыслового стыка двух текстов:
К а т е р и н а. Да пойми ты меня, враг ты мой : ведь до гробовой доски!
К а т е р и н а. Зачем ты моей погибели хочешь?
К а т е р и н а. Нет, нет! Ты меня загубил!
Б о р и с. Разве я злодей какой?
К а т е р и н а (качая головой). Загубил, загубил, загубил!
Б о р и с. Сохрани меня бог! Пусть лучше я сам погибну!
К а т е р и н а. Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом , ночью иду к тебе.
Б о р и с. Ваша воля была на то.
К а т е р и н а. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля , не пошла бы я к тебе. <…>
Твоя теперь воля надо мной , разве ты не видишь! [Островский 2020, 79] (шрифт наш – С.М.).
Резюмируем. Непосредственные диалогические отношения текста Александра Островского и текста Дениса Третьякова становятся фактором расширенного понимания привычного классического драматургического и современного песенного дискурса. В исследуемой конкретике появляется возможность раздвижения рамок субъектной трактовки песни – по предложенному ее автором макету диалога в диалоге. Субъектность в «Делай что хочешь» весьма размыта, нечетка. С одной стороны, в роли ретранслятора основного послания (весь текст песни), выступает ролевой субъект-адресант, с другой, невинный и невидимый голос, возникающий в припеве и изрекающий запредельную сентенцию, с третьей – сам исполнитель песни (далеко не обязательно ее автор). Адресатами песни при этом могут быть и Катерина, и Варвара как дополняющие друг друга антиподы / доппельгангеры. Понимание свободы, о которой в той или иной мере мечтает каждый персонаж пьесы, сопряжено с постижением греха (Катерина) и принятием изначальной собственной греховной природы (Варвара).
Целесообразно наряду с интертекстуальными комментировать и трансцендентально-метафизические грани рассматриваемой песенной и драматургической художественности, которые уточняет глобальный хро-нотопический и субъектный каркас текста песни, а также его сакральная геометрия. В герменевтический круг попадает советская литература как опыт постижения энергий мировой революции через творение коммунистической мифологии.
Кроме наглядного и концептуального лексического консонанса интенций Островского, Третьякова и Кроули, в общем контексте заметна важная семантическая акцентуация песни, также носящая объединяющий характер. Это императивность высказываний, обусловленная жанром послания: автор / исполнитель просит адресата / приказывает адресату слушать голос, который, в свою очередь, обращается к адресату с просьбой / требованием – «делай что хочешь <…> но не губи свою душу». Обозначенный единый атрибутивный ракурс распознается в ассоциативном ряду с библейской максимой «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12: 25).
Вследствие интеграции всех представленных тезисов насыщаются базисные, традиционные смыслы пьесы: появляется возможность привнесения нового семантического элемента, связанного с актуализацией контекста мировых апокрифических тенденций, выраженных в манихействе, гностицизме, и прочих синкретических дуалистических ересях. Так что можно подтвердить, что перформативные корреляционные отношения песенной лирики и драмы, сама родовая специфика которых сочетается со сценическим воплощением, свидетельствуют по меньшей мере об интересных исследовательских возможностях в области изучения многоаспектной межродовой и межжанровой диалогичности. Очевидно, продолжение поисков в таком перспективном направлении научного осмысления далековатых сближений – особенностей корреляции / взаимопроникновения классической и неклассической художественности – принесет свои плоды.
Список литературы Диалоговый потенциал песни и драмы («Делай что хочешь» Дениса Третьякова и «Гроза» Александра Островского)
- Барковская Н.В. Мистериальный хронотоп как «форма времени» в русской литературе 1906–1909 годов // Русская литература XX–XXI веков: направления и течения. 2002. № 6. С. 79–92.
- Добрев Ч. Лирическая драма. М.: Искусство, 1983. 325 с.
- Доманский Ю.В. Вариативность и интерпретация текста (парадигма неклассической художественности): дис. … д. филол. н.: 10.01.08. М., 2006. 494 с.
- Доманский Ю.В. О драме и театре: От века минувшего к нынешнему веку. М.: Эдитус, 2021. 164 с.
- Доманский Ю.В. Рок-поэтика. М.: Эдитус, 2023. 206 с.
- Гайдар А.П. Сказка о Мальчише-Кибальчише: Рассказы. М.: АСТ, 2023. 192 с.
- Гаспаров М. Послание // Краткая литературная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1968. С. 905.
- Гольбурт Л. Субъект-объект-собеседник в поэзии Анны Глазовой // Субъект и лиминальность в современной литературе (поэзия, проза, драма), Trier, 6–10 Juli 2017, Robert-Schuman-Haus. Трир, 2017. С. 25–26.
- Дегтярева Е.Ю. Вальс. История возникновения и современность // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2012. № 1(27). С. 170–180.
- Журчева О.В. Жанровые поиски в новейшей русской драме // Национальные коды в европейской литературе ХIХ–XXI вв. Литературный канон в контексте межкультурной коммуникации. Нижний Новгород: Издательство Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2020. С. 133–138.
- Журчева О.В. Проблемы становления жанра «лирическая драма» в русской драматургии ХХ века // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. Т. 10. № 6-1. С. 222–228.
- Кихней Л. Из истории жанров русской лирики. Стихотворное послание начала ХХ века. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1989. 161 c.
- Кроули А. Книга Закона. Книга Лжей. Пенза: Алмазное сердце, Золотое сечение, 2005. 300 с.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 558 с.
- Маркелова О.А. «Любовь как награда, как фронт без пощады…» Взаимоотношения человека с Богом и судьбой в альбоме группы «Церкви детства» «Минные поля» // Русская рок-поэзия: текст и контекст. 2007. № 9. С. 238–247.
- Меркушов С.Ф. «Деревья качаются без ветра»: рецептивный и интертекстуальный жест Дениса Третьякова («Церковь детства») // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2021. Т. 6. № 3. С. 80–95.
- Музыка и сцена: сборник статей. Материалы Международной научной конференции «Бахрушинские чтения-2021. Музыка и сцена», Москва, 8–9 апреля 2021 г. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2022. 176 c.
- Островский А.Н. Гроза. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2020. 112 с.
- Смирнов А., Калиничев И., Оболонкова А. Бомба для Вавилона // «Завтра», 4 августа 2004 г. URL: https:// zavtra.ru/blogs/2004-08-0471 (дата обращения: 20.01.2024).
- Смирнов И.П. Мимесис // Звезда. 2020. № 2. C. 261–277.
- Третьяков Д. Сегодня Вальпургиева ночь… 30.04.2021. URL: https://vk.com/wall-202088983_101?w=wall117243988_7169&ysclid=lqscgvl464662117116 (дата обращения: 21.01.2024).
- Тюпа В.И. Драма как тип высказывания // Поэтика русской драматургии рубежа XX–XXI веков / сост. и отв. ред. С.П. Лавлинский, А.М. Павлов. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. С. 11–22.
- Тюпа В.И. Перформативные основания лирики // XLII Международная филологическая конференция: избранные труды, Санкт-Петербург, 11–16 марта 2013 г. СПб: Издательство СПбГУ, 2014. С. 306–314.
- Хализев В.Е. Драма как род литературы. М.: Издательство МГУ, 1986. 260 с.
- Ужанков А.Н. Еще раз о «Луче света в темном царстве» (О драме А.Н. Островского «Гроза») // Новый филологический вестник. 2017. № 4(43). С. 179–190.
- «Церковь детства». К святым местам [Фонограмма]. Выргород, 2015.
- «Церковь детства»: магия сейчас сильнее, чем искусство // Подлед, 10.09.2019. URL: https://podled.media/tserkov-detstva/ (дата обращения: 24.12.2023).
- «Церковь детства» Делай, что хочешь. URL: https://work.vk.com/video192575767_171985809 (дата обращения: 30.12.2023).