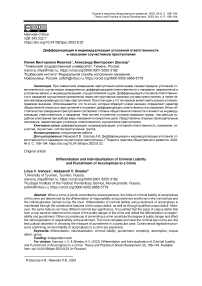Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности и наказания соучастников преступления
Автор: Иванова Л.В., Шеслер А.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2023 года.
Бесплатный доступ
При совместном совершении преступления несколькими лицами пределы уголовной ответственности соучастников определяются дифференциацией ответственности и наказания, закрепленной в уголовном законе, и индивидуализацией, осуществляемой судом. Дифференциация уголовной ответственности и наказания соучастников проявляется через конструктивные признаки состава преступления, а также через квалифицированные составы преступления. При этом один и тот же признак может иметь разное уголовно-правовое значение. Обосновывается, что те из них, которые образуют новую санкцию, определяют характер общественной опасности преступления и отражают дифференциацию ответственности и наказания. Иные обстоятельства совершения преступления составляют степень общественной опасности и влияют на индивидуализацию ответственности и наказания. Чем полнее и понятнее уголовно-правовые нормы, тем меньше судебное усмотрение при выборе меры наказания в конкретном деле. Представлены спорные законодательные положения, закрепляющие уголовную ответственность соучастников преступления.
Дифференциация, индивидуализация, уголовная ответственность, наказание, соучастие, соучастник, состав преступления, группа
Короткий адрес: https://sciup.org/149143948
IDR: 149143948 | УДК: 343.222.7 | DOI: 10.24158/tipor.2023.8.23
Текст научной статьи Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности и наказания соучастников преступления
1Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия, , 2Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, Новокузнецк, Россия, ,
,
2Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service, Novokuznetsk, Russia, ,
Совместное совершение преступления неизбежно поднимает вопрос о пределах ответственности каждого из соучастников. Современное уголовное законодательство содержит отдельные положения относительно нее, однако отсутствие однозначных и четких критериев дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания участников группового преступления приводит к различным мнениям среди ученых в отношении направлений и средств такой дифференциации, а также создает сложности в правоприменительной деятельности. Справедливо признается, что дифференциация ответственности и наказания относится к правотворческой деятельности, в то время как индивидуализация свойственна правоприменительной1. При этом индивидуализация базируется на предусмотренной в законе дифференциации уголовной ответственности и наказания.
Законодатель устанавливает пределы ответственности, вид и размер (срок) наказания за преступления, исходя из оценки характера и степени общественной опасности преступления. В науке уголовного права признается, что характер последней выражает качество этого признака, а степень – его количественную характеристику. Важно, что Пленум Верховного Суда РФ в отдельных постановлениях указывает, что именно необходимо учитывать для их определения2. Однако среди ученых можно встретить различные взгляды на содержание данного признака. Так, одни исследователи полагают, что характер общественной опасности преступления определяется его объектом, и поэтому характеризуют это свойство как типовое для всех преступлений, посягающих на определенный объект (жизнь, собственность, общественную безопасность и т.д.). Степень общественной опасности зависит от особенностей деяния (его субъекта, причиненного ущерба, формы вины) (Марцев, 2000: 25). Но возникает вопрос о том, почему иные обстоятельства, помимо объекта преступления, не характеризуют типовую общественную опасность последнего.
Другие исследователи в этой связи более точно отмечают, что по характеру общественной опасности следует отграничивать одни виды преступлений от других, а по степени общественной опасности – преступления, совершенные при квалифицирующих признаках или обстоятельствах, отягчающих наказания, от совершенных при отсутствии таких признаков и обстоятельств. Квалифицирующие признаки или обстоятельства, отягчающие наказание, относятся исследователями к количественным показателям общественной опасности преступления, потому что они оказывают не качественное, а измерительное воздействие на общественную опасность деяния (Филимонов, 2017: 66–67). С положением о том, что характер общественной опасности должен лежать в основе отграничения одних видов преступлений от других, следует согласиться. Такой подход действительно позволяет выделить качество преступления, исходя из которого, законодатель описывает его в виде отдельного состава в Особенной части УК РФ3. Однако такое выделение преступления в законе предусматривает его самостоятельную наказуемость. Смысл качественного показателя общественной опасности (его характера), как представляется, состоит именно в том, что все преступления наказываются по-разному.
Поэтому нельзя согласиться с утверждением, что квалифицирующие признаки состава преступления характеризуют общественную опасность с количественной стороны, со стороны степени общественной опасности. Если законодатель за преступление, совершенное при квалифицирующих признаках, предусматривает более строгую санкцию, чем за деяние, совершенное при их отсутствии, то он тем самым признает за таким деянием новое качество. Например, у кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц, появляется новое качество, так как такая кража приводит к снижению у потерпевшего возможности защитить свое имущество.
Иная ситуация складывается в тех случаях, когда преступление совершается при обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание (ст. 61, 63 УК РФ4). Наличие этих обстоятельств, исходя из позиции законодателя, не влечет новую санкцию и дает суду возможность назначить наказание только в пределах определенной санкции, установленной за определенное преступление.
Таким образом, характер общественной опасности определяется той совокупностью признаков состава преступления, за которую предусмотрена самостоятельная санкция. С этих позиций по характеру общественной опасности они отличаются не только по видам, которые выделяет законодатель, исходя из целой совокупности признаков (объекту посягательства, форме вины, способу совершения и т.д.), но и по наличию признаков, которые лежат в основе выделения квалифицированных (или привилегированных) составов. В остальных случаях обстоятельства совершения преступления, в том числе смягчающие и отягчающие наказание (ст. 61, 63 УК РФ1), характеризуют степень общественной опасности преступления.
Исходя из вышеизложенного, позволим не согласиться с тем, что применительно к соучастию характер общественной опасности не может быть положен в основу дифференциации ответственности соучастников2. Совершение преступления в составе группы в одних составах выступает конструктивным признаком, в других – квалифицирующим, в третьих – обстоятельством, отягчающим наказание. Различный подход законодателя в оценке общественной опасности одних и тех же обстоятельств лежит в основе признания их неодинаковой правовой природы – одни служат для дифференциации, другие – для индивидуализации ответственности и наказания.
Прежде всего рассмотрим, каким образом законодатель проводит дифференциацию уголовной ответственности применительно к институту соучастия в преступлении и какие спорные моменты в связи с этим сохраняются до настоящего времени.
Во-первых, в тех случаях, когда преступная группа в силу факта своего существования обладает особой общественной опасностью (состоящей в специфике вредоносности таких групп и прецедентности их создания) (Шеслер, 2018: 125) и является типичным субъектом криминального мира для данных видов преступности (в частности, бандитизм, террористическая деятельность, экстремистская деятельность и т.п.), законодатель устанавливает конструктивный признак совершения деяния в составе группы. В частности, это статьи 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 212, 239, 281.3, 282.1, 282.2, 284.1 УК РФ3. Как видим, подобный подход характерен только для таких форм соучастия, как организованная группа и преступное сообщество (преступная организация).
Во-вторых, для отдельных видов преступлений законодатель учитывает повышенную опасность совершения деяния в составе группы, закрепляя соответствующие квалифицирующие (особо квалифицирующие) признаки, показывая типичность совершения таких преступлений в составе группы. В большинстве случаев при этом просматривается «дифференцирующая шкала наказуемости» (Куфелкина, 2023: 140). Как было отмечено выше, признаки состава преступления, «порождающие» новую санкцию, демонстрируют характер общественной опасности преступления.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что законодатель в ряде случаев не дифференцирует ответственность применительно к разным формам соучастия, закрепляя в рамках одного квалифицирующего (или особо квалифицирующего) признака группу лиц по предварительному сговору и организованную группу. Таким способом законодатель по сути ставит знак равенства в степени общественной опасности разных групповых образований, что недопустимо, так как традиционно организованная группа – более опасная форма соучастия4.
Конечно, закрепление в рамках одного квалифицирующего признака разных форм соучастия облегчает деятельность правоприменителя в квалификации содеянного несколькими лицами. Однако такой подход не согласуется с необходимостью дифференциации ответственности участников различных групповых образований и нарушает системность уголовно-правовых норм.
Еще более непонятной выглядит ситуация, когда в рамках одной статьи законодатель подходит по-разному к установлению квалифицирующих признаков. Так, ст. 171.1 УК РФ5 содержит три самостоятельных состава преступления (ч. 1, 3, 5), причем различия, в основном, проявляются в рамках предмета преступления. Уголовная ответственность за противоправные действия с товарами и продукцией без маркировки дифференцирована по форме соучастия (при совершении деяния группой лиц по предварительному сговору наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок до 4 лет, организованной группой – до 6 лет). В то же время, если аналогичные действия совершаются в отношении продовольственных товаров или немаркированной алкогольной продукции, табачных изделий, то лишение свободы на срок до 6 лет предусмотрено как для лица, совершившего данное преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, так и для лица, действовавшего в составе организованной группы. Другими словами, законодатель дифференцировал ответственность по форме соучастия в рамках общего состава преступления, а в рамках специальных составов такого разделения не провел, что вызывает вопросы.
Следует отметить, что иногда законодатель устанавливает только квалифицирующий признак совершения деяния организованной группой, не фиксируя повышенную ответственность за действия по предварительному сговору, в большинстве составов вообще не фигурирует признак совершения деяния в составе группы лиц (без предварительного сговора), ни в одном составе преступления не закрепляется квалифицирующий признак совершения деяния в составе преступного сообщества (преступной организации), на что неоднократно обращалось внимание в научной литературе (Рогова, Забавко, 2022: 88). Соответственно, групповой способ совершения такого преступления не выступает дифференцирующим обстоятельством, а учитывается лишь при индивидуализации наказания. Однако представляется, что необходимо проводить дифференциацию ответственности соучастников по всем формам соучастия, указанным в ст. 35 УК РФ1 в тех составах, для которых групповой способ совершения является типичным.
В-третьих, дифференциация ответственности соучастников в уголовном законе проводится и в зависимости от вида соучастника. Однако это касается не всех. Так, для лица, создавшего организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, особо подчеркивается, что оно несет ответственность за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие соучастники несут ответственность за действия в составе соответствующего группового образования, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Следует отметить, что в научной литературе высказывались различные мнения относительно установленной законодателем ответственности такого лица: от необходимости уточнения формулировки «охватывались его умыслом» (Ковалев, 1999: 174) до ее исключения (Арутюнов, 2001: 25) или закрепления полной ответственности независимо от конкретного умысла организатора2. Однако установление ответственности названных лиц вне зависимости от направленности их умысла приведет к необоснованному расширению пределов их ответственности, вплоть до объективного вменения. Кроме этого интересы организованной группы (или преступного сообщества), цели ее деятельности осознаются лицом, создавшим или осуществлявшим руководство такой группой, и это осознание охватывается содержанием умысла данного лица, являющегося неопределенным.
Вместе с тем справедливо отмечается, что в ч. 5 ст. 35 УК РФ3 указаны не все статьи Особенной части УК РФ, по которым несет ответственность организатор. Например, отсутствуют ст. 205.5, 281.3, 282.2 УК РФ и другие. Конечно, некоторые из них были внесены в документ позднее, но если уж законодатель избрал способ перечисления конкретных статей Особенной части УК РФ, по которым несет ответственность организатор преступления, то необходимо это делать последовательно. Для того чтобы избежать подобных неточностей, согласимся, что правильнее вернуться к прежней редакции нормы – до внесения в нее изменений Федеральным законом 03.11.2009 г. № 245–ФЗ4, то есть без перечисления конкретных статей УК РФ, что представляется более удачным (Балеев, 2018: 149).
В-четвертых, применительно к остальным видам соучастников пределы их ответственности не определяются, кроме закрепления ее за неоконченное преступление в случае неудавшегося подстрекательства и недоведения исполнителем преступления до конца. Кроме этого, согласимся, что установление самостоятельной ответственности отдельных соучастников, когда они становятся исполнителями «своего» состава преступления, «ломает» логику дифференциации уголовной ответственности и наказания соучастников преступления. Например, установление ответственности за посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, за содействие террористической деятельности. Подобное законодательное решение оставляет без внимания дифференциацию уголовной ответственности соучастников других преступлений – пособников и подстрекателей (Рогова, Забавко, 2022: 89).
В-пятых, к средствам дифференциации уголовной ответственности соучастников можно отнести и основания освобождения от нее, указанные в примечаниях статей Особенной части УК РФ, если они затрагивают деятельность нескольких лиц. Так, например, ограничение конкуренции предполагает наличие нескольких хозяйствующих субъектов, и освобождается от уголовной ответственности лицо, первым из числа соучастников преступления добровольно сообщившее о нем и соответствующее другим признакам, указанных в примечании к ст. 178 УК РФ5. Интересно, что остаются нерешенными возможные ситуации одновременного освобождения от уголовной ответственности нескольких соучастников, если, например, они обратились в различные правоохранительные органы с соответствующими сообщениями о совершении преступления независимо друг от друга, но одновременно, в различных регионах страны (или в различных часовых зонах), на что обращалось внимание в Заключении Правового управления по проекту федерального закона № 260190-6 «О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (второе чтение)1 и научной литературе (Кузнецов, 2016). Однако вопрос остался нерешенным, и теоретически, если соучастники одновременно сообщают о совершенном преступлении, то правовых препятствий для освобождения каждого из них от уголовной ответственности в подобной ситуации не имеется.
Далее остановимся на отдельных аспектах индивидуализации уголовной ответственности и наказания соучастников. Индивидуализация осуществляется через смягчающие и отягчающие обстоятельства, в частности, указанные в п. «и» ч. 1 ст. 61, п. «в», «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ2, и ряд других обстоятельств, учитываемых при назначении наказания (например, указанных в ч. 3 ст. 60, ст. 89 УК РФ3). Следует отметить, что отдельными исследователями данные обстоятельства в силу закрепления их в законе отнесены к основаниям и средствам дифференциации, а не индивидуализации уголовной ответственности и наказания (Ермолович, 2014). Однако, учитывая, что данные обстоятельства не влекут введения законодателем новой санкции, отражая степень общественной опасности преступления, они представляют собой выражение индивидуализации уголовного наказания.
Учет при назначении наказания группового способа совершения преступления происходит применительно к тем составам преступления, для которых он является нетипичным и, соответственно, неучтенным при дифференциации ответственности соучастников преступления. Однако возникает вопрос, всегда ли законодатель верно подходит к определению «типичности» и «нети-пичности» для тех или иных составов преступлений, так как нередко в судебной практике можно встретить ситуации, когда преступление совершается, например, в составе группы лиц по предварительному сговору, а конкретный его состав содержит только квалифицирующий признак совершения деяния организованной группой4 либо вообще не содержит подобных признаков.
Помимо обстоятельств, отягчающих наказание, применительно к соучастникам преступления предусмотрены и смягчающие его, в частности, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. Анализ судебных приговоров показывает, что в большинстве случаев суды констатируют лишь факт такой деятельности, не обосновывая в приговоре ее содержание. Вместе с тем в отдельных случаях суды указывают, в чем выразилось активное способствование изобличению других соучастников, в частности, в даче признательных показаний5, на стадии предварительного расследования – подробных показаний об обстоятельствах совершенных преступлений, о действиях соучастников, даче необходимых пояснений при осмотре места происшествия6, добровольном участии в проведении следственных действий, в очной ставке7, написании явки с повинной с указанием обстоятельств содеян-ного8. Представляется, что обоснование в приговоре учтенного обстоятельства повышает качество правоприменительной деятельности.
Положительно стоит оценить и то, что при отсутствии оснований для признания наличия такого смягчающего обстоятельства суд не просто констатирует это, но и аргументирует свою позицию. Так, по одному из дел, суд указал, что не усматривает активного способствования изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку, как следует из материалов уголовного дела, все преступления были выявлены в результате просмотра видеозаписей камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы совместные преступные действия подсудимых, а признание ими своей вины учтено в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства1.
В рамках индивидуализации наказания суд принимает во внимание и другие обстоятельства применительно к каждому из соучастников. Учитывая, что УК РФ содержит лишь общие положения о назначении наказания при соучастии, вопрос о мере наказания различных видов соучастников полностью отдан на усмотрение суда (Дядькин, 2016: 235). Поэтому в судебной практике можно встретить различные решения относительно пределов наказуемости соучастников преступления.
Таким образом, индивидуализация ответственности и наказания соучастников зависит от дифференциации их ответственности и наказания. Чем полнее и понятнее уголовно-правовые нормы, тем меньше судебное усмотрение при выборе меры наказания. Дифференциация ответственности и наказания соучастников проявляется через конструктивные и квалифицирующие признаки состава преступления, которые, «порождая» новую санкцию, репрезентируют характер общественной опасности преступления. Смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства, несмотря на закрепление в уголовном законе, относятся к индивидуализации ответственности и наказания соучастников и отражают степень общественной опасности деяния. Учитывая, что законодатель не всегда последователен в дифференциации уголовной ответственности и наказания соучастников преступления (как было показано выше), что влияет и на качество правоприменительной деятельности, необходима выработка четкого механизма и критериев такой дифференциации и индивидуализации.
Список литературы Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности и наказания соучастников преступления
- Арутюнов А.А. Уголовно-правовая характеристика преступного сообщества // Адвокат. 2001. № 2. С. 20–25.
- Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по Уголовному кодексу Российской Федерации // Союз криминалистов и криминологов. 2018. № 2. С. 146–150. https://doi.org/10.31085/2310-8681-2018-2-146-150.
- Дядькин Д.С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного наказания. М., 2016. 342 с.
- Ермолович Я.Н. Дифференциация уголовной ответственности военнослужащих. М., 2014. 288 с.
- Клименко Ю.А. Классификация соучастия: формы, виды, значение для уголовно-правовой оценки преступления // Lex Russica (Русский закон). 2016. № 5 (114). С. 156–168.
- Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. 204 с.
- Кузнецов А.В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием 3 статьи 178 Уголовного кодекса РФ // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 1. С. 57–60.
- Куфелкина И.Ю. Формы соучастия в преступлении как критерий дифференциации уголовной ответственности // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 1, № 2 (104). С. 135–141. https://doi.org/10.51965/2076-7919_2023_1_2_135.
- Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. Омск, 2000. 135 с.
- Рогова Е.В., Забавко Р.А. Дифференциация уголовной ответственности соучастников преступления // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2022. Т. 12, № 5. С. 82–93. https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-5-82-93.
- Филимонов В.Д. Генезис преступления. М., 2017. 142 с.
- Шеслер А.В. Дифференциация и индивидуализация уголовного наказания как методы реализации уголовно-право-вой политики // Вестник Кузбасского института. 2018. № 3 (36). С. 123–128.