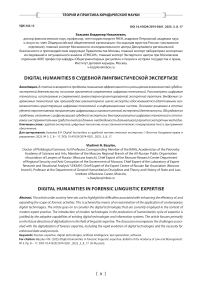Digital humanities в судебной лингвистической экспертизе
Автор: Базылев В.Н.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье освещаются проблемы повышения эффективности и расширения возможностей судебноэкспертной деятельности на основе применения современных цифровых технологий. Рассмотрены цифровые технологии, используемые в современной гуманитарно-ориентированной экспертной практике. Внедрение современных технологий при производстве гуманитарного цикла экспертиз обосновывается адаптивными возможностями существующих цифровых технологий и информационных систем. Основное внимание в статье уделено перспективным направлениям цифровизации лингвистической экспертной деятельности. Обсуждаются проблемы, связанные с цифровизацией судебной экспертизы: быстрое развитие цифровых технологий и отставание инструментальных средств анализа данных, необходимость дальнейшего развития экспертных методик.
Судебная экспертиза, цифровые технологии, искусственный интеллект, генерирование текста, программное обеспечение
Короткий адрес: https://sciup.org/14133186
IDR: 14133186 | УДК: 343.13 | DOI: 10.47629/2074-9201_2025_3_8_17
Текст научной статьи Digital humanities в судебной лингвистической экспертизе
Р азвитие науки и техники, возникновение новых объектов судебных экспертиз, изменение классификации родов и видов судебных экспертиз, увеличение информационного потока, развитие методологии судебной экспертизы – всё это вестники стремительного процесса цифровизации судебноэкспертной деятельности. Использование современных технологий – важная часть деятельности современного судебного эксперта.
Сегодня происходит «взрывное» расширении круга экспертных задач в связи с исследованием как новых объектов, так и традиционных, но с учетом их модификации в новых социальных и правовых условиях. Так, «Справочник по подготовке, организации, назначению и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России» (2024) включает в себя помимо ставшихтрадиционными видов гуманитарной экспертизы – автороведческой, лингвистической и фоноскопической – политологическую, религиоведческую, социологическую и этическую экспертизы [24].
Названное расширение обусловлено появлением:
-
• новых видов преступлений и, как следствие, потребностей следственной и судебной практики, например, по выявлению недостоверной информации в ходе ведущейся сегодня против РФ информационно-психологической войны;
-
• новых объектов и связанных с ними эксперт ных задач, увеличением объема конкретного объекта (например, печатной, аудио- или видеопродукции) или количества однотипных объектов (например, серии печатных изданий, аудио- или видеопродукции, изъятых при обыске, публикаций в блоге, переписки в мессенджерах и др.).
Требования сегодняшнего дня – экономия времени и человеческого ресурса. Актуализации проблемы цифровой трансформации комплекса экспертиз по работе со следами когнитивной деятельности человека обусловлена не только всё возрастающим объемом информации, сведений и текстов, а неконтролируемым возрастанием слабоструктурированных тестовых массивов. По этой причине использование информационных технологий и элементов искусственного интеллекта, то есть цифровая трансформация, приобретает актуальность в ходе оперативного и качественного выполнения поставленных перед судебными экспертами задач. В публикациях по данной тематике речь идет об оптимизации (экономии времени и людских ресурсов), стандартизации (отсутствии общепринятых методик исследования объектов гуманитарной экспертизы), эффективности (непротиворечивости, нефальсифицируемости, надежности, полноты экспертизы), а также сведении к минимуму фактора субъекта (максимальной объективности гуманитарных видов экспертиз) [10; 15; 20; 25].
Разумеется, задача цифровой трансформации экспертной деятельности в целом звучит сегодня несколько тривиально. Основные виды судебных экспертиз пользуются успехами компьютерных наук с 60-х годов прошлого века вплоть до дня сегодняшнего. Это судмедэкспертиза, баллистика, трасология, дактилоскопия и др. Об этом писалось много еще в 90-х, например, в фундаментальных работах Р.С. Бел-кинаи Е.Р. Россинской [5, с. 57-74; 21, с. 307-325]. Уже тогда было понятно, что цифровая трансформация коренным образом меняет принципы работы эксперта – от переосмысления старых операционных моделей до экспериментирования с новыми за счет использования цифровых инструментов для решения актуальных экспертных задач. Последнее включает в себя применение искусственного интеллекта и использование облачных технологий для повышения эффективности осуществляемой экспертом операциональной деятельности.
Таким образом, цифровой ресурс следует принимать как набор инструментов, который позволяет создавать цифровой контент в доступном конструкторе как матрице методических приемов, задающих алгоритм работы эксперта.
К сожалению, распространение успехов цифровизации пока не затронуло комплекс гуманитарноориентированных экспертиз, оставаясь благим пожеланием на уровне «общих слов», как, например, в последних публикациях Е.Р. Россинской [22]. Единичные попытки, конечно, были. Например, разработки электронной энциклопедии эксперта Р.К. Потаповой в конце девяностых [19]. Но они так и остались единичными экспериментами, широко не востребованными.
Объясняется сложившаяся ситуация тремя факторами.
-
1. Поколение экспертов, пришедшее в гуманитарно-ориентированную экспертизу на волне бума, который начался в середине 90-х, пользуются аналоговыми технологиями, то есть продолжают в силу консервативных установок отдавать предпочтение «ручной работе» с языковым материалом – текстом. Они уверены, что успешно справлялись с этим двадцать с лишним лет, и освоение новых технологий не даст их работе никаких новых импульсов.
-
2. Теоретическая база гуманитарно-ориентированных судебных экспертиз практически не разработана; анализ публикационной активности экспертов-гуманитариев (в первую очередь лингвистов) позволяет констатировать, что публикации носят преимущественно номинативно-декларативный характер и не позволяют читателю-эксперту операцио-нализировать свои профессиональные (экспертные) намерения.
-
3. Отсутствие разработанной стратегии, поддающейся формализации в цифровой трансформации
экспертной деятельности лингвиста, психолога, религиоведа, политолога или философа, если речь идет о этиковедческой, по сути, деонтологической экспертизе. То есть отсутствует формализация деятельности эксперта-гуманитария (состав и последовательность работ) и входящие в нее процессы (учитывая возможные правовые риски): учет организационной структуры, документооборот, используемые информационные технологии.
В настоящей статье остановимся на последнем из перечисленных проблемных факторов – отсутствие полного общепризнанного алгоритма работы эксперта со следами когнитивной деятельности человека. Отдельные фрагменты, безусловно, присутствуют в имеющихся публикациях – методических рекомендациях и научных монографиях, например, в работах Е.И. Галяшиной и А.Н. Баранова [2, с. 180; 12, с. 253], которые носят единичный характер. Пока у нас нет также ответа на вопрос, что представляет собой основная часть заключения эксперта с точки зрения жанра академического письма, поскольку только жанр может быть формализован при цифровой трансформации работы эксперта.
Обращаясь к аналитике ситуации, сложившейся на сегодняшний день, укажем на следующее. Заключения экспертов-гуманитариев (лингвистов, авторове-дов, политологов, религиоведов (теологов), социологов и философов (этиковедческая экспертиза) носят, в основном, четко выраженный научно-исследовательский характер, то есть и по форме, и по содержанию похожи на научные статьи по лингвистике, литературоведению и иным гуманитарным дисциплинам. В большинстве методических рекомендаций [14, с. 5457; 26], учебниках [12, с. 374-375] и научных статьях [16, с. 140-144; 18, с. 18-28] отображается именно этот жанр.
Это приводит к появлению серии, можно сказать, псевдопроблем (например, «проблема» корреляции формулировок законодательных норм и соответствующих им лингвистических терминов и понятий [8]), неких фантомов, на разрешение которых впустую потрачено уже немало сил.
А.Н. Баранов в начале нулевых предложил считать, что «лингвистическая экспертиза по жанру и духу похожа на лингвистические задачи (задачи лингвистических олимпиад)» [1, с. 554].
Во втором десятилетии нового века экспертное лингвистическое сообщество несколько раз возвращалось к открытому обсуждению того, как должно выглядеть экспертное заключение с точки зрения своей жанровой принадлежности. Так, С.Б. Владимирова предложила считать судебное экспертное заключение жанром двойственной природы – одновременно документным текстом и текстом научного исследования, где второе обусловлено первым и композиционно встроено в него,со специфическим язы- ковым воплощением – сочетанием стилей речи: официально-делового, научного и разговорного [9, с. 4148]. Эта установка продолжает существовать в подавляющем большинстве теоретических работ, посвященных жанру экспертного заключения. По словам Е.В. Баталовой, «экспертное заключение характеризуется чертами научного и официально-делового стиля, так как часть жанров отражает в себе наложение функциональных стилей» [4, с. 15].
Е.Б. Берг предлагает понимать жанровую особенность экспертного заключения как вариант профессионального общения в сфере лингвистической экспертизы, комбинаторно объединяющий три подъязыка: лингвистического профессионального знания, правового профессионального знания и обыденного сознания [6, с. 31-33].
Однако такое понимание экспертного заключения ведет к появлению очередной проблемы. Дело в том, что в процессе доказывания могут быть использованы только такие выводы эксперта, которые не требуют для своей интерпретации специальных знаний, соответствуют принципам квалифицированности и определенности и являются доступными для следователей, судей и других лиц. Иными словами, как справедливо считает О.Е. Фролова, часть текста экспертного заключения – содержание исследования и его результаты – должна быть понята адресатом, не имеющим специального (узкопрофессионального) представления о языке, но имеющим специальные знания по юриспруденции [27, с. 24-26].
Сегодня стало очевидным, что судебная экспертиза и научно-исследовательская работа – разные продукты профессиональной деятельности. Этот тезис подтверждается авторитетным мнением экспертов Минюста РФ, например, полковником Ю.М. Баркаловым [3]. В связи с этим своевременным представляется сформулировать актуальное понимание того, что представляет собой жанр академического письма, в котором должен создаваться (писаться) тот раздел экспертного заключения, в котором отражено содержание и результаты исследования.
Если мы не ответим на этот вопрос, то мы не сможем перейти к решению очередной проблемы: что именно мы должны трансформировать в цифру, какой алгоритм должен быть прописан для деятельности эксперта-гуманитария? Без решения названной проблемы все попытки описания алгоритма действий эксперта сводятся, как показывают единичные публикации, например, Е.И. Галяшиной, А.Н. Баранова и Д.Л. Карпова [2; 11; 14], к описанию стратегии филологического (и только филологического) анализа текста.
С нашей точки зрения, аккумулируя весь имеющийся опыт отечественной лингвистической экспертизы, заключение эксперта следует считать доказательственным эссе.
Формальная структура заключения эксперта имеет два фрагмента: предпосылочный, в котором излагается всё, что предшествует собственно процедуре экспертизы (этот фрагмент носит фиксированно-выборочный характер), и собственно исследовательский, включающий в себя выводное знание (этот фрагмент носит вариативный характер).
Приведенный перечень элементов структуры дает основание полагать, что та часть заключения, которая описывает содержание и результаты исследований с указанием применяемых методик, дает оценку результатов исследований, обоснование и формулировку выводов по поставленным вопросам, имеет вариативный характер, поскольку принципы и правила описания зависят от специфики описательных, классификационных, аналитических и прочих процедур той отрасли научного знания, методы которой экстраполируются в экспертную практику.
Заключение эксперта в своей исследовательской части как процессуальный документ, содержащий результат применения научно обоснованной методики к объектам, которые ему предоставлены, структурируется как текст не произвольно, а по определенной жанровой модели. Исходя из содержания текста и тех задач, которые решаются субъектами права на основе изучения данного текста, такой жанровой моделью является эссе, а именно доказательственное эссе (эссе-доказательство).
Это означает, что языковое воплощение данного речевого жанра является частично клишированным, языковые средства выбираются в соответствии с текстуальными традициями оформления исследования языкового материала и отражения профессионального знания.
Судебное экспертное заключение в своей исследовательской части как конечный продукт деятельности эксперта, как текст обладает следующими композиционно-языковыми особенностями эссе.
Композиционно эссе состоит из двух частей. Часть первая – реферативная, в которой описывается объект исследования, – текст как продукт языковой деятельности с точки зрения формы (означающего), содержания (означаемого) и значимости. Часть вторая – собственно исследовательская, завершающаяся выводами.
Исследовательская часть экспертного заключения имеет следующую логическую структуру, состоящую из трех компонентов:
-
1. Общее правило (большая посылка) – разъяснение в общедоступной форме сущности научного положения и методики исследования, которое имеет решающее значение для правильной оценки заключения эксперта. В связи с этим необходимо указать (назвать при общеизвестности всем специалистам данного вида экспертной практики или описать при
-
2. Конкретные данные об исследуемом предмете: его свойства и признаки, исходные данные (меньшая посылка, или аргумент).
-
3. Собственно вывод – умозаключение (доказываемый тезис) – построение (конструирование) выводного знания по правилам логики (силлогизма), то есть последовательности суждений, которые связаны отношением логического следования; так как начально (исторически) экспертиза входит в уликовую парадигму как безоговорочно принятая научным сообществом модель научной деятельности, то познавательной процедурой выведения наилучшего объяснения выступает абдукция, цель которой – дать максимально правдоподобную интерпретацию тому, что считается истинным применительно к единичному случаю. Абдукция представляет собой вид редук-тивного вывода с той особенностью, что из посылки, которая является условным высказыванием, и заключения вытекает вторая посылка. Например, первая посылка: люди смертны; заключение: Сократ смертен; мы можем предположить с помощью абдукции, что вторая посылка – Сократ – человек.
его инновационности или малодоступной информированности о нем) на то, какие методы экстраполируются на предмет исследования в данном конкретном случае.
Конструирование выводного знания основано на совокупности логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений, а именно на доказательстве.
Эксперт не может подменять процедуру доказательства процедурой убеждения, которое является риторическим приемом, призванным «навязать» адресату свое мнение, точку зрения. Доказательства должны основываться исключительно на данных использования той научной методики, которая экстраполирована в соответствующую экспертную практику.
Структура доказательства включает в себя три элемента: тезис, аргументы и выводы.
Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. Задача формулирования тезиса – выразить утверждение (ни в коем случае не мнение эксперта или рассуждение). Аргументы – категории, которыми пользуется эксперт при доказательстве истинности тезиса.
Эксперт-лингвист имеет дело со следующими группами аргументов:
• удостоверенные факты, то есть фактический языковой материал, экспериментальные данные или статистические данные; • определения, используемые как описание понятий, связанных с тезисом; • законы науки о языке (лингвистики) и ранее доказанные прецеденты.
В соответствии с этим выстраивается весь алгоритм исследовательской техники.
Часть 1. Шаги 1-3
Шаг 1. Описательная часть.
Описание «следа» как целостного предмета исследования – вещественного доказательства, подлежащего исследованию и оценке в качестве суммарного источника сведений о событии.
Шаг 2. Классификация 1-го уровня – продукт или отпечаток.
На основе наблюдаемых и регистрируемых признаков дихотомии языка и речи формулируется суждение о том, является ли предмет исследования продуктом языковой деятельности человека или отпечатком языковой и/или речевой его деятельности.
На этом шаге эксперт решает, относится ли предмет исследования к его специальности, или для его исследования необходимо привлечение экспертов иных специальностей.
Если следствие интересует продукт языковой деятельности, то это предопределяет проведение исключительно лингвистической экспертизы, так как объектом науки о языке является язык.
Если следствие интересует помимо самого продукта создатель (автор) продукта языковой деятельности, то речь идет о комиссионной экспертизе, для проведения которой привлекается специалист-авторовед, который имеет дело с материальными языковыми отпечатками.
Если эксперт констатирует, что предметом исследования является отпечаток речевой деятельности человека, то это предопределяет проведение фоноскопической или психологической экспертизы. В данном случае вопросы будут касаться речевого следа (отпечатка) звуковой (как формы речевой) деятельности личности и/или отпечатка речевой и нере-чевой/поведенческой деятельности личности, так как следствие может интересовать не только реконструкция речевого поведения человека как состоявшегося факта действительности, но и прогностика поведения человека.
Шаг 3. Классификация 2-го уровня – жанр продукта языковой деятельности (текста).
Используя коллекцию признаков существенных свойств объекта, эксперт решает задачу, относится ли исследуемый продукт языковой деятельности к тому жанру, который представляет собой, например, «угрозу»: письмо, надпись, записка, сообщение. При положительном ответе эксперт переходит к шагу 4, при отрицательном – экспертиза завершается формулировкой суждения (категорического или условного) о том, что, например, данный продукт – не «угроза».
Часть 2. Шаги 4-7
Шаг 4. Формулирование суждений применительно к наличному предмету исследования. Если исходный материал установлен с достоверностью и достаточен для применения в процессе обоснования демонстративных рассуждений (как в случае правила), результат его использования обеспечивает получение объективного истинного знания (Шаги 5-6). Применительно к конкретному случаю (конкретная экспертиза текста) полученные данные, на основании которых формулируется суждение, носят характер доказательства (строгого рассуждения как вида аргументации). Поскольку все суждения (правило и результат) за счет объективной процедуры описания и регистрации признаков считаются истинными, то и логически (абдуктивно) связанное с ними суждение также будет истинным. Этот шаг обеспечивает построение познавательной процедуры выводного знания по правилам абдукции (иллюстрация приводится с использованием понятия «угроза»).
Правило: «Угроза имеет следующие признаки формы и значения: результат – признаки наличествуют – случай – этот текст – угроза».
Шаг 5. Исследовательский – анализ формы (структуры) текста.
Эксперту нужно учитывать общенаучное положение, сформулированное в свое время А.А. Эйсма-ном применительно к экспертной практике в целом: «Следует напомнить, что в преобладающем числе случаев главная трудность экспертизы, требующая в наибольшей степени профессиональных знаний и опыта, состоит не в обнаружении признаков (все признаки почерка, например, просто видны невооруженным глазом), а в их отделении от случайных помех, в оценке их значения, в их научном истолковании» [12, с. 97].
Эксперт на основании наблюдаемых и регистрируемых признаков описывает форму продукта языковой деятельности (текста). На основании этого формулируется суждение о типе угрозы.
Шаг 6. Исследовательский – анализ значения (содержания) текста.
Эксперт на основании наблюдаемых и регистрируемых признаков, содержащихся в коллекции данных, описывает значение/содержание продукта языковой деятельности. На основании этого формулируется суждение о значении/содержании угрозы.
Шаг 7. Выводы.
Выводы эксперта – это констатация наличия продукта языковой деятельности в правовой ситуации, взятого изолированно вне связи и соотношения его с другими продуктами языковой деятельности или отпечатками речевой деятельности.
Цифровая трансформация должна быть встроена в алгоритм экспертных операций, то есть выполнять сопроводительную (обеспечивающую) функцию. Речь идет, прежде всего, о создании программных комплексов автоматизированного решения экспертных задач, включающих подготовку самого эксперт- ного заключения. Дело в том, что при существующем порядке производства судебных экспертиз, который сохраняется без изменения на протяжении многих лет, выполнение экспертизы и составление экспертного заключения является весьма трудоемким процессом, особенно в случаях комплексных многообъектных экспертиз, и требует больших трудозатрат. В то же время экспертная нагрузка постоянно растет, что сказывается отрицательно на качестве экспертных заключений. Таким образом, в случае комплекса гуманитарных экспертиз следовало бы сконцентрировать внимание на специализированных системах поддержки судебной экспертизы. При посредстве систем такого рода эксперт получает возможность правильно описать, классифицировать и исследовать представленные на экспертизу вещественные доказательства, определить стратегию производства экспертизы, грамотно провести необходимые исследования в соответствии с рекомендованными методиками, подготовить и сформулировать экспертное заключение. Освобождая эксперта от рутинной работы, они экономят его время и силы, концентрируют внимание на интеллектуальных аспектах экспертизы.
В первую очередь речь идет о работе с большим массивом текстов, которые необходимо подвергнуть реферативно-аннотированной обработке. Реферирование и аннотирование массивов текстов нужны в экспертизе для эффективной обработки больших объемов информации. Это поможет сократить время на поиск нужных документов, установить основное содержание текста, определить, нужно ли обращаться к первоисточнику, оперативно ознакомиться с содержанием документов, сэкономить время на поиск и сбор информации, структурированно и содержательно сориентировать адресата (дознавателя, следователя) в объемном по протяженности тексте. То есть поможет решить проблему информационной перегрузки эксперта и облегчить работу с большими объемами данных.
Это поддерживает Шаг 1 и Шаг 2 описанного алгоритма: Шаг 1 –описательная часть. Шаг 2 – классификация 1-го уровня – продукт или отпечаток.
Обзор инструментов реферирования
Text Summarizer – онлайн-сервис, использующий алгоритмы машинного обучения для создания кратких рефератов. Он способен обрабатывать тексты на русском и английском языках. Преимущества: простой интерфейс, быстрая обработка текстов, поддержка русского языка.
MEAD – открытая платформа для многодокументного и однодокументного реферирования. Использует статистические методы и машинное обучение. Преимущества: гибкая настройка параметров, возможность обучения на специализированных корпусах.
Summarize Bot – бот для мессенджеров и вебприложение, использующее нейронные сети для создания рефератов. Преимущества: удобство использования через мессенджеры, поддержка различных форматов файлов.
Resoomer – онлайн-инструмент для автоматического реферирования текстов с использованием алгоритмов NLP. Преимущества: интуитивно понятный интерфейс, выделение ключевых идей в тексте.
Кампус AI – платформа, предлагающая инструменты искусственного интеллекта для работы с текстовыми материалами. Преимущества: учет структуры и стиля текста, интеграция с другими инструментами для исследователей.
Intellexer Summarizer – инструмент, использующий семантический анализ для создания рефератов. Преимущества: учет семантических связей в тексте, возможность настройки степени сжатия.
Шаг 3 алгоритма – классификация 2-го уровня – жанр продукта языковой деятельности (текста), поддерживается базой данных.
Приоритетность использования в экспертной работе баз данных обусловлена необходимостью замены уже устаревших бумажных коллекций. Кроме того, в комплексе гуманитарных экспертиз постепенно складывается практика использования экспертами баз данных, которые изначально разрабатывались для их применения в смежных областях знаний.
Естественно, подобные базы данных должны быть адаптированы в процессе экспертной практики под решение задач конкретной гуманитарно-ориентированной судебной экспертизы. Следует понимать, что база данных – это лишь формат их сбора и хранения. Система не анализирует содержащиеся в ней данные с целью выдачи конкретного результата для производства экспертизы. Все данные, которые содержатся в базе, анализируются посредством различных дополнительных инструментов, силами самого эксперта. Современные технологии лишь помогают эксперту производить судебную экспертизу. Обработку результатов в ближайшие годы следует оставлять эксперту.
Однако, по мнению А.А. Саркисян, на сегодняшний день у нас фактически отсутствует специализированная экспертная библиотека, позволяющая повысить уровень качества экспертных заключений. Особенно актуально это для начинающих специалистов, которые еще не успели в ходе практической деятельности создатьдостаточно полный архив необходимой литературы [23, с. 133-140].
База данных в случае комплекса гуманитарных экспертиз понимается как упорядоченный набор информации о жанрах (типах) продуктов когнитивной деятельности человека – текстах, что позволяет сортировать, фильтровать и определять типы, предо- ставленные для исследования следов по их формальным признакам.
Принципы разработки базы данных в криминалистике известны давно и активно применяются для различных видов и родов экспертиз. Эти принципы могут быть положены в основу создания базы данных по комплексу гуманитарных экспертиз.
Специально поясним Шаг 4. Шаг 4 – формулирование суждений применительно к наличному предмету исследования – остается в сфере интеллектуальной деятельности эксперта, и пока инструментально поддержан быть не может.
Шаг 5 – исследовательский – анализ формы (структуры) текста и Шаг 6 – исследовательский – анализ значения (содержания) текста – также могут быть поддержаны за счет обращения к имеющемуся программному обеспечению (далее – ПО).
Сегодня принято исследовать (описывать и анализировать) содержание текста с помощью кон-тент-анализа – совокупности методических приемов подсчета частоты появления в тексте определенных характеристик. Это позволяет делать выводы о намерениях создателя текста (мотивах) и возможных реакциях адресата, то есть решать собственно диагностическую задачу экспертизы.
Можно использовать «готовое» ПО:
Word Stat – модуль анализа текста, предназначенный для обработки материалов, таких как журнальные статьи, литературные произведения, интервью, позволяющий создавать категориальный аппарат и словарь контент-анализа;
Concordance – программа для проведения кон-тент-анализа электронных документов, позволяющая создавать списки связанных единиц счета, индексов, слов, обрабатывать большие массивы;
LEXIMANCER– мультиязычное программное обеспечение, производящее контент-анализ больших объемов текста, позволяющее совмещать в массиве тексты разных жанров и стилей;
PROTAN – комплекс из 30 программ, интегрированных в один блок, позволяющий проводить контент-анализ массивов текста с помощью встроенных словарей и идентифицировать сюжетные линии, определяя корреляции между словами;
SEO-анализ текста Адвего – метод семантического анализа текста, который позволяет получать статистические данные о тексте в соответствии со сформулированными требованиями исследования;
Voyant tools – веб-платформа для определения контекста используемых слов.
Кроме этого в экспертизе устных текстов возможно применение интент-анализа – экспериментального подхода, позволяющего путем анализа публичной речи говорящего выявить недоступный при использовании других видов анализа скрытый смысл его выступлений, намерений и целей, которые влияют на дискурс.
При больших объемах материала в этом случае также целесообразно обращаться к ПО:
-
AUTINDEX – ПО с функцией извлечения ключевых слов из документа для представления его семантики, система может быть интегрирована с тезаурусом;
Language Ware – технология обработки естественного языка (NLP), позволяющая обрабатывать текст на естественном языке и включающая в себя набор библиотек Java, которые предоставляют ряд функций NLP: идентификация языка, сегментация/ токенизация текста, нормализация, извлечение сущностей и отношений, а также семантический анализ и устранение неоднозначности;
Inxight – продукт для анализа текста в виде библиотек C , в частности Thing Finder для идентификации сущностей и грамматических шаблонов, таких как «факты», события, отношения и настроения;
Poly Analyst – продукт, включающий функции кластеризации текста, анализа тональности, извлечения фактов, ключевых слов и сущностей, а также создания таксономий и онтологий.
Представляется целесообразным использовать также имеющийся опыт психолингвистического анализа текста с использованием соответствующего ПО:
-
ВААЛ – программа, предоставляющая возможности фоносемантического анализа;
Словодел – универсальная программа экспертизы текстов внушения (рекламных, психотерапевтических, личностных), воздействующих на индивидуальное и массовое сознание;
Пси Офис 2.1 – комплекс из нескольких программ, позволяющих анализировать подсознательный компонент текста и сознательно его эмулировать (имитировать), то есть синтезировать тест, содержащий скрытые фразы.
Пилотные исследования двух последних лет продемонстрировали, что нейросети оказались в состоянии определить юмористический характер незнакомого им и не обнародованного ранее текста, что позволяет говорить об их способности идентифицировать комический прием независимо от материала, на котором этот прием выполнен.
Особо остановимся на проблеме программного применения в случаях с анализом языковых игр. Не сегодняшний день есть несколько проектов, которые могут помочь успешно идентифицировать метафоры, например, PRAGGLEJAZ и MIPVU [3; 28].
Не вызывает сомнения, что для сравнения текстов большого объема, то есть при решении идентификационной задачи в лингвистической экспертизе, также целесообразно использование ПО: TextCompare, Copy Leaks, Draftable, Diffchecker, Content Reader.
Помимо сказанного выше обратим внимание на то, что необходимо обеспечить эксперта ПО для облегчения рутинной работы по оформлению документа, в частности преамбулы, вводной части и выводной части. Из имеющихся на сегодняшний день возможностей назовем генератор отчетов – программу или библиотеку, позволяющую представить информацию в удобочитае-момструктурированном виде,другимисловами,сделать из данных информацию (документ, отчет), используемые как всоставе программ, программныхсистем и комплексов, так и самостоятельно для анализа имеющихся данных безотносительно формирующих их систем.
В качестве таковых можно ориентироваться на имеющиеся разработки – программы для автозаполнения документов: Битрикс-24, специализированные конструкторыдокументов; Комбинатор– конструктор документов с функцией автоматического заполнения на основе нейрошаблонов; Doczilla – AI-платформа.
Что касается выводного фрагмента экспертизы, то искусственный интеллект может формулировать выводы по имеющемуся тексту, используя автоматизированный поиск ответов и/или объяснения решений на основе пошагового решения задачи. Нейросети быстрее выделяют главное из текста, создавая структурированный вывод. Генераторы вывода – ruGPT, Кампус AI, Online GPT, GPT-tools, Chat Info, Mitup AI, Пиксель Тулс – способны анализировать тексты и выделять ключевые моменты для формулировки конечных и точных выводов. Эти инструменты не только ускоряют процесс обработки информации, но и улучшают качество синтеза данных, позволяя пользователям-экспертам сосредоточиться на более глубоком понимании материала и стратегическом аспекте работы. Нейросети для написания выводов по тексту, разрабатываемые для широкого пользования с 2024 года, представляют собой ключевую технологию, способную трансформировать подходы к обработке и интерпретации текстовой информации.
Таким образом, цифровизация в перспективе всего комплекса гуманитарно-ориентированных экспертиз необходима, несмотря на допустимые пределы применения в исследовании Digital humanities, о которых писала в свое время Е.И. Галяшина [11]. Справедливости ради следует сказать, что с момента публикации ее статьи прошло уже почти двадцать лет. Сегодня, как считают М.А. Осадчий и Е.А. Кожевникова Е. А., это обеспечит надежность, достоверность, объективность и фальсифицируемость экспертизы на всех этапах – от подготовительногодо выводного[17], а также позволит сделать очередной шаг в создании системы контроля качества в области судебно-экспертной деятельности [13]. При этом можно пойти двумя путями: использовать и/или адаптировать для нужд судебной гуманитарной экспертизы уже имеющееся ПО. Однако перспективно следует разработать автономный комплект программ (авторского специализированного комплекса), учитывающий специфику работы эксперта-гуманитария и специфику объектов исследования, как структурный элемент его (эксперта) «рабочего места».
Заключение
Использования баз данных, цифровых возможностей и искусственного интеллекта поможет судебным экспертам, занимающимся комплексом гуманитарных экспертиз – лингвистической, авторо-ведческой, политологической, психологической, религиоведческой, этиковедческой – адаптироваться к новым условиям следствия и судопроизводства, продиктованным процессами цифровизации в современном российском обществе, в частности, в системе права. Эксперту следует активно формировать актуальные навыки работы с объектами, соответствующие новым реальностям. Эксперты-гуманитарии могут и должны использовать базы данных и автоматизированные информационно-поисковые системы, имеющиеся в других областях науки и техники, адаптировав их для решения задач судебной экспертизы.
Вместе с тем при всех этих технологиях роль специалиста, обладающего специальными знаниями, остается центральной. Технологии – это инструменты, пусть и очень продвинутые. Принимать решения,учи-тывая все особенности конкретного дела и связанных с ним фактов и обстоятельств, будет именно эксперт.