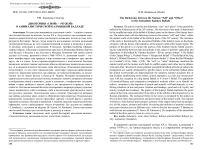Дихотомия "свой" - "чужой" в анималистической калмыцкой балладе
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается дихотомия «свой» - «чужой» в анималистической балладе калмыцких поэтов ХХ в. Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью баллады калмыцких поэтов на тему литературного бестиария. Целью статьи является исследование поэтики калмыцкой литературной баллады на тему взаимоотношений человека и животных в аспекте позиции, оппозиции и диспозиции. В балладах Тимофея Бембеева «Җиврнь тәәрңхә тоһрун»(«Баллада о подрезанных крыльях»), Владимира Нурова «Баргин туск баллад» («Баллада о псе Балтыке»), Михаила Хонинова «Әм залһсн шовум дуулна» («О птице, раненной в бою») 1960-1970-х гг. дихотомия «свой» - «чужой» манифестирует мир природы и мир человека как в конфликте друг против друга, так и в союзе. Если в героико-патриотических и политических балладах калмыцких авторов главные персонажи обычно обозначены конкретными именами, то в анималистических балладах люди обезличены: безымянный рассказчик актуализирует то или иное происшествие, акцентируя морально-нравственные ценности; персонажи-животные, как правило, не персонализированы, за исключением пса по имени Балтык в балладе В. Нурова. Историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы позволяют выявить авторские интенции в изображении людей и животных, диких и домашних, в конфликтных ситуациях войны и мира, свободы и неволи, добра и зла, преданности и вражды, силы и слабости. Поэтика калмыцкой баллады подчеркивает жанровую природу произведения, выраженную либо в названии, либо в подзаголовке оригинального текста или русского перевода. Экологическая тема в сюжетах транслируется авторами как любовь к родному краю, защита и сбережение мира животных. Национальное мировидение калмыцких поэтов проецирует картину степной фауны в ракурсе народной культуры, обычаев и верований. Сохраняя традиции национальной версификации, поэты структурируют тексты по-разному: без деления на строфику (Т. Бембеев), с делением на катрены (В. Нуров, М. Хонинов). Зоопоэтика анималистической баллады трех поэтов ближе к рассказу в стихах.
Дихотомия, свой, чужой, бестиарий, калмыцкая анималистическая баллада, калмыцкая поэзия, зоопоэтика, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149136568
IDR: 149136568 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00029
Текст научной статьи Дихотомия "свой" - "чужой" в анималистической калмыцкой балладе
В жанровой системе калмыцкой поэзии XX в. баллада, возникшая в конце 1930-х гг, не заняла ведущего места, а в современном литератур-
** The reported study was funded by government grant in the form of federal budget subsidy aimed to support scientific research directed by the Leading Scientist - project name ‘From Paleogenetics to Cultural Anthropology: Comprehensive Interdisciplinary Research of Peoples and Traditions of Cross-Border Regions - Migrations, Cross-Cultural Interactions and Worldviews’.
ном процессе и вовсе не привлекает внимания авторов. Немногие баллады Гари Даваева, Басанга Дорджиева, Лиджи Инджиева, Морхаджи Нарма-ева, Михаила Хонинова, Егора Буджалова характеризуются героико-патриотической и политической направленностью, связанной с революцией, гражданской войной и Великой Отечественной войной [Ханинова 2019 а; Ханинова 2019 Ь, Ханинова 2019 с], политической борьбой коммунистов зарубежных стран [Ханинова 2020 Ь]. Автобиографизм, документальная основа обусловили в таких произведениях появление исторических персонажей, современников авторов, участников описываемых событий в сюжетах и мотивах. К спортивной балладе следует отнести у Д. Кугуль-тинова «Балладу чистой совести» [Ханинова 2019 с]. Сюжеты баллад Д. Кугультинова «Зуудн» («Сон»), С. Байдыева «Башмгудын туск баллад» («Баллада о башмаках») ближе к классической европейской балладе с характерными для нее мотивами сновидения, воскрешения, двоемирия, тайны, оживления вещей [Магомедова 2008, Ханинова 2019 с, Ханинова 2020 а, Ханинова 2014]. Ориентация на русские источники XX в. определила своеобразие калмыцкой литературной баллады с сохранением традиции национального стихосложения. Необходимо отметить, что жанровая принадлежность произведения к балладе атрибутировалась авторами по-разному: в названии и / или в подзаголовке. Нередко русские переводчики сами обозначали указанный жанр в ЗФК (заголовочно-финальный комплекс) несмотря на то, что автор не относил свой текст к этому жанру, например, Д. Кугультинов [Ханинова 2019 с]. Есть случаи неправильного определения произведения как баллады самим автором, например, Ц. Лед-жиновым («Бальчгин туск баллад» = «Баллада о грязи») [Ханинова 2020 а] или переводчиком, например, у Д. Кугультинова («Баллада диких тюльпанов») [Ханинова 2019 с].
Реже представлены и фактически не изучены баллады калмыцких поэтов на тему природы, с персонажами - представителями животного мира степного края. Это баллады Тимофея Бембеева «Живрпь тээрцхэ тоБрун» («Журавль с подрезанными крыльями», 1966; в переводе Д. Долинского «О подрезанных крыльях»), Владимира Нурова «Баргин туск баллад» («Баллада о сторожевом псе», 1974, в переводе Ю. Нейман «Баллада о псе Балтыке»), Михаила Хонинова «Эм залБсн шовум дуулна» («Моя возродившаяся птица поет», 1975, в переводе А. Николаева «О птице, раненной в бою»),
В традиционной картине мира представление о мире животных передает отношение к нему калмыков на основе народных верований, обычаев и обрядов как к общей модели мироздания, в которой человек и животные, являясь равнозначными элементами вселенной, сосуществуют и взаимодействуют на протяжении тысячелетий. Прежде всего это нашло отражение в калмыцком устном народном творчестве - в эпосе, мифах, легендах, преданиях, сказках, песнях, малых афористических жанрах (пословицы, поговорки, загадки) [Мифы, легенды и предания калмыков 2017]. По словам ГЦ. Пюрбеева, «эпическая фауна удивительно богата. Она представ- лена тремя группами: это домашние и дикие животные (около 40 названий), звери и птицы (свыше 20 названий). Прежде всего выделяются четыре традиционных видов скота (оорвн зусн мал)'. лошади, крупный рогатый скот, верблюды и бараны. <...> Наряду с домашними животными в эпосе называется немало диких, на которых велась индивидуальная и облавная охота: бук ‘изюбрь, олень-самец’, марл ‘марал, олениха’, тек ‘горный козел’, зур ‘дикая коза’, кудр ‘кабарга’, хулан ‘кулан’, тэк ‘дикая лошадь’, горэсн ‘антилопа’, боди ‘кабан, вепрь’, шовшур ‘трехлетний матерый кабан’. В эпосе упоминается и экзотическое животное - слон (зан). Среди зверей фигурируют: “три могучих” - лев (арслц), медведь (отг) и барс, а также волк (чон), лиса (унгн, арат), заяц (туула), барсук (зорх), тушканчик (ялмн). <...> В эпосе встречается немало названий птиц - обитателей лесов, гор, степей и водоемов: бургд ‘бергут’, итлг ‘балабан’, элэ ‘коршун’, тас ‘орел-ягнятник’, нами ‘сокол’, шоцхр ‘кречет’, хун ‘лебедь’, токстн ‘павлин’, торка ‘жаворонок’, мукой ‘утка’, богшурка ‘воробей’, харада ‘ласточка’, керз ‘ворон’, ууль шовум ‘сова, филин’, дегдзмл ‘птенец’, кзрд 1. орел; 2. мифическая птица Гаруда» [Пюрбеев 2015, 43-44]. Из царства животных, зверей и птиц, в той или иной мере упоминаемых в эпическом тексте, исследователь выделил те, которые издревле почитались как родовые тотемы монгольских племен XII XIII вв., например: волк (чон), бык (бух), ворон (кера), овца (хон) [Пюрбеев 2015, 47].
«В калмыцких сказках о животных, - как указывает Т.П Басангова, -представлены следующие представители фауны: слон, лев, барс, волк, лисица, заяц, суслик, мышь, верблюд, медведь, марал. Небольшой пласт представляют сказки, где героями являются насекомые и земноводные -муравей, комар, вошь, паук, лягушка; птицы - петух, воробей, ястреб, баклан, экзотическая птица - павлин; домашние животные - козлик, бычок, баран» [Басангова 2019, 6]. Некоторые животные, звери и птицы в калмыцком эпосе и сказках являются помощниками героя, спасают ему жизнь, умеют говорить.
Среди персонажей баллады Т. Бембеева, В. Нурова, М. Хонинова есть домашние и дикие животные и птицы. Журавль - один из частотных символов степи в калмыцкой поэзии. Главный герой баллады Т. Бембеева «Жщврнь тээрцхо тоБрун» («Журавль с подрезанными крыльями», 1966) - журавль, которому какой-то человек подрезал крылья и разлучил таким образом с родиной. В заглавии произведения поэт сразу обозначил птицу и ее причину ее несчастья - подрезанные крылья, в подзаголовке - жанр баллады (по-русски баллада). Даниил Долинский в своем переводе дал усеченное название «О подрезанных крыльях», сохранив подзаголовок, а в тексте - обозначение представителя семейства журавлиных. По-калмыцки журавль - токрун, журавль-красавка - токрун-сззхлд [Манджикова 2007, 71]; серый журавль - ели мацхан токрун [Калмыцко-русский словарь (далее КРС) 1977, 343]. У Бембеева речь идет именно о сером журавле. Оригинальный текст разделен на две части, перевод же структурирован катренами. В первой части представлена история о том, как каждую весну журавль торопился в калмыцкую землю, минуя моря и океаны, находя отдых и удовлетворение в родных краях. Теперь же, сообщает рассказчик, для птицы, увы, эта земля недоступна: «Ода болхла, чавас, / Одх Базр маду» [Бембин Т. 1966, 3]. Драма заключается в том, что прошлой осенью какой-то человек, поймав журавля, подрезал его прекрасные крылья: «Намрар нисж; ирхлэнь / Her оздц барси, / Эрднь саахн живрипь / Эгцлэд...» [Бембин Т. 1966, 3]. Поэтому, лишившись своих крыльев, несчастный уподобился птенцу, проливал горячие слезы, желал бы, как ласточки и утки, отправиться вместе с ними, но вынужден горевать все лето. И только подобная картине степь снится ему во сне, заставляя страдать: «Эгцлэд орксн / Делдгнь, коорк, тасрад, / Дегдэмл болж; йовБдсн, / Харада, нуБснд жилвтэд, / Халун нульмсан асхсн, / Зунын тес гейурнэ. / Зовлц икд уруДнэ- / Зург болен теегнь / Зууднд орж; генулнэ» [Бембин Т. 1966, 3]. Вторая часть стихотворения начинается с характерного для балладного сюжета наречия «вдруг» («генткн»), когда звукоподражание «кур-лы-курлы», переданное по-русски, указывает на прилет бесстрашного журавля, добравшегося до степей зимой и не побоявшегося бурана, возможной гибели. Калмыцкое звукоподражание журавлей в сказках дается как «кири-кири, кур-куру», в том числе в глагольной форме «доцБдх» - петь, кричать; «доцг» означает крик как любой птицы, так и журавля [Басангова 2019, 214; Монраев 2014, 112-115].
Сложив отросшие крылья, журавль приземлился; поэт сравнил его с орлом - царем птиц, оценив его подвиг и любовь к родине: «Хойр живрэн хурана, / Хан-Бэрдинэр унна» [Бембин Т. 1966, 3]. Среди ментальных маркеров-символов родины есть фитоним «полынь» (шарлжп), ольфакторный сигнал - запах полыни. Стихотворение завершается пейзажем солнечной калмыцкой степи с полынным запахом («Камб шарлящь кацкнна. / Кок теегнь мануртна»), манифестируя торжество жизни над смертью, свободы над неволей, любовь к родине. Дихотомия «свой» - «чужой» в оригинальном тексте представлена оппозициями: жизнь - смерть, свобода - неволя, родина - чужбина, сила - слабость. В то же время антитеза «свой» - «чужой» усложняется тем, что «свой» (земляк) из хулиганства подрезал крылья «своей» птице, таким образом, обратив «свое» в «чужое». Диспозиция правового поля делает хулигана нарушителем закона, с одной стороны, с другой - нарушителем народных обычаев в отношении этой сакральной птицы. Среди тюрко-монгольских народов бытуют традиции, среди которых запрет убивать журавля, разорять гнездо, уничтожать его яйца или птенцов, поскольку журавлиное проклятие настигнет своего губителя. Сравним «ТоБруна туск баллад» («Баллада о журавлях», 1944) Б. Дор-джиева, в которой журавлиная стая отомстила фашистскому летчику за смерть журавля, атаковав вражеский самолет [Ханинова 2019 а]. Калмыцкая народная песня «Хар келн тоБрун» («Журавль с черным языком») рассматривается как песня-проклятие тому, кто уничтожил птенцов журавля [Басангова 2019, 213]. Вспомним балканскую традицию, где журавль тоже почитается как «святая» птица (у хорватов), убийство его воспринимается как грех (у македонцев) и влечет тяжелое наказание (у герцеговинцев): к примеру, журавль поджигает дом обидчика (у румын) [Гура 1997, ббб]. По словам современного исследователя, согласно народной примете калмыков, прилет журавлей несет только хорошие новости. В калмыцком фольклоре, в частности в сказках, образ журавля часто наделялся такими чертами, как ум, благородство, рассудительность [Басангова 2019, 215].
У Долинского в переводе баллады сюжет однолинеен и выпрямлен. История о журавле, которому «подрезал крылья кто-то», «чтоб он забыл и родину, и небо», теперь «ушли сородичи в зенит. / А он, под ними уменьшаясь, тая, / Бескрыло, как цыпленок семенит, / И долгим взглядом провожает стаю...» [Бембеев 1974, 15]. Если в оригинале автор дает эмоциональную оценку происшествию, называя человека «хулиганом» («оздц»), жалеет журавля-инвалида: междометие «чавас», выражающее жалость, сочувствие, сожаление, отчаяние, прилагательные «коорк» (бедный), «хоэмнь» (несчастный, жалкий), а затем сравнивает вернувшегося на родину журавля с орлом, то в переводе эти эмоциональные определения отсутствуют, как и звукоподражание птице. Нет в переводе и семантического маркера-сигнала родной калмыцкой степи - упоминания полыни с ее пряным запахом. Кольцевой композицией о родине, которая у каждого одна, актуализирована тема баллады.
Баллада Владимира Нурова «Баргин туск баллад» («Баллада о сторожевом псе», 1974) в отличие от баллады Т. Бембеева своим названием прямо определяет жанровый диапазон. В русском переводе Юлии Нейман из нейтрального обозначения породы собаки (сторожевой пес) в заглавии указана собачья кличка - «Баллада о псе Балтыке». По-калмыцки «барг» -сторожевой пес, дворняжка [КРС 1977, 81-82]. Калмыцкая поговорка гласит: «барг чигн биш, шург чигн биш = ни рыба ни мясо (букв, ни овчарка, ни гончая)» [КРС 1977, 82]. Собаки имели клички (например, Хаср, Баер), поскольку защищали кочевника и его скот от хищных зверей, жили рядом с человеком, были преданными соседями.
Кличка собаки Балтык (калм. Балтг) отсылает, вероятно, к слову «балт» - боевой топор, секира [КРС 1977, 80]. Так, в тексте йорела-бла-гопожелания есть черная собака Хар Балтг («Черная секира») с белым пятном, для которой также испрашивается счастье; по всей видимости Балтг - это табуированное название собаки [Басангова 2019, 67] с характеристикой ее острых зубов. Мифы, поверья и ритуалы, связанные с собакой, определили у калмыков ее почитание, т.к., например, благодаря собаке люди используют муку. Среди хороших примет - кормление собаки равносильно кормлению душ умерших предков; приблудилась ко двору собака - семью ждет процветание. К плохим приметам относился вой собаки как предвестия несчастья, в этом случае ее убивали.
По сравнению с балладой Т. Бембеева, написанной от лица безымянного рассказчика, нуровская баллада построена с имитацией диалоговой формы, особенно заметной в русском переводе, организованном в виде прямой речи человека и собаки. Оригинальный текст начинается с имен-

ного обращения лирического субъекта к собаке с приветствием, в котором Балтык назван собачьим князем, с призывом пообщаться: «Нохасин нойн, Балтг, менд, / Ноолдл уга тагчг бэнч!» [Нуура В. 1974, 8]. В нашем смысловом переводе: «Собачий князь, Балтык, здравствуй, без драки молча пребываешь!». Собеседник напоминает Балтыку, как в детстве, сопровождая деда, загонявшего вечером отару овец в кошару, его будто старшего брата встречал озорной сторожевой пес. Как суровой зимой, когда продувал насквозь резкий ветер, как летом, когда пересыхала в пасти слюна, тот одерживал победы в схватке за хозяйскую собственность, гонялся за волками. Как Балтык, невзирая на количество волков, не жалея своей шкуры, боролся с хищниками. Но страшнее четвероногих врагов были двуногие воры (люди), которым тоже дали отпор сторожевые псы, подобные тиграм, в том числе и Балтык. Прием воспоминания сближает хронотоп прошлого и настоящего, возвращения в детство, выражает благодарность лирического субъекта любимому псу. «Когшн баргин толБа теврэд, / Колинь атхад мендинь меднэв. / Норсн нудинь тагчгар арчад, / Ноосинь эцкин сахлшц илнэв» [Нуура В. 1974, 11]. Смысловой перевод: «Обняв голову старого сторожевого пса, пожав ему лапу, понял, что тот тоже поздоровался. Вытерев молча свои мокрые глаза, глажу собачью шерсть, словно отцовскую бороду».
В оригинале баллады Нурова дихотомия «свой» - «чужой» так же, как и в бембеевской балладе, являет позицию ближнего круга (дед, внук, отец, домашний скот - овцы, лошади, а также сторожевые псы), оппозицию «свой» - «чужой» в мире животных (домашний скот - волки), диспозицию в правовом плане (люди-воры и хозяева). Волки в нуровской балладе показаны хищной стаей. В калмыцком фольклоре образ волка амбивалентен: положительная характеристика определена почитанием его как тотема для некоторых калмыцких родов: «В быту калмыков считалось, что шкура животного, его зубы, мясо обладали магическими излечивающими свойствами. Мясом кормили больных легочными заболеваниями, полагаясь на его целебные свойства, в шкуру животного заворачивали новорожденных детей, в особенности родившихся ослабленными, в оберегающих целях, детям даровали волчий клык как средство от сглаза» [Басангова 1997, 96]. У славянских народов также разнообразно использование волка в магических целях, когда части тела и имя этого зверя использовалось для приобретения отпугивающих свойств, агрессивности жизненной силы и здоровья, имело отвращающую, потенцирующую и лечебную функцию [Гура 1997, 153]. Славянской традиции присуще амбивалентное отношение к волку, есть хорошие и неблагоприятные приметы. Определяющим же в символике волка является признак «чужой» [Гура 1997, 157].
Используя прием олицетворения, Ю. Нейман в своем переводе акцентирует признаки нуровской баллады, создав диалог человека и собаки, в котором основная часть принадлежит рассказу Балтыка о том, как он защищал отару от зверей-хищников и от людей-воров, как в этой схватке гибли сторожевые псы, друзья и подруги. Заключая диалог, переводчица актуализирует героизм одних (собаки и дед) и предательство других (лю-ди-воры): «- Балтык, да ты и впрямь - герой! / Ты деду был под пару. / И за людей стоял горой...» [Нуров 1981, 95]. В то же время в русском переводе героический пафос снижается введением мотива старости и покоя, которого нет в оригинале. «Чего ж скулишь ты, старый?.. // Припомнил прежние дела / И хочешь стать моложе? / Да, старость, друг мой, тяжела / И псам, и людям - тоже... // Балтык, ты заслужил покой, / Треплю седую спину... / Я глажу шерсть его рукой, / Как дедовы седины» [Нуров 1981, 95]. Как в переводе Долинского, так и в переводе Нейман эмоциональная авторская интенция в той или иной степени микшируется: взаимное приветствие пса, мокрые глаза человека, рассказчик, обнимающий собачью голову, замена сравнения (вместо отцовской бороды дедовы седины). В обеих балладах на первый план выходят не люди (безымянные рассказчики), а птица (журавль) и сторожевой пес, овчарка. При этом в первой балладе мир человека явлен как враждебный для журавля с подрезанными крыльями, во второй же мир людей и мир животных, домашних и диких, дан в бинарной парадигме «свой» и «чужой», где свой может стать и чужим, а чужой - своим. Сравним небольшое стихотворение В. Нурова «Баргин укл» («Смерть сторожевой собаки», 1992), в котором собрат Бар-лыка из ранней баллады гибнет в бою с волками [Нуура В. 1981, 25]. В двух произведениях поэтов, как обычно в классической балладе, нет конкретного хронотопа, кроме упоминания, что действие происходит в калмыцкой степи, позиционируемой как родина. При этом объем оригинального текста и перевода варьируется: у Бембеева около 70 строк против 24, у Нурова 20 катренов против 26.
Стихотворение «Эм залЬсн шовум дуулна» («Моя возрожденная птица поет», 1975) Михаилом Хониновым прямо не отнесено к балладе, как это происходит во многих других его текстах.
Подзаголовок «степная баллада» дан переводчиком Александром Николаевым, подчеркнувшим в названии произведения - «О птице, раненной в бою» - автобиографические мотивы из жизни калмыцкого поэта, партизанского командира в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Тема войны и мира повлияла на стиль русского перевода, в который введены военные термины и сравнения, отсутствовавшие в оригинальном тексте: солдат, рукопашная, таран, названия самолетов «ястребок» («ЯК») и «мессершмитт», сражавшиеся птицы - асы, территория воздушного боя - трассы, в то же время использованы и авторские детали: оружие - лук, стрелы, штык. Сравним с другим произведением М. Хонинова в переводе Олега Шестинского «Степная баллада» (1972), с мотивами противоборства двух верблюжьих вожаков и предательства стада одним из них [Хонинов 1972].
Если в балладе Т. Бембеева уже в заглавии птица поименована (журавль), то в балладе М. Хонинова у обеих птиц нет никакой соотнесенности с каким-либо семейством: они выделены цветом - черная и желтая, в переводе А. Николаева показана иная дихотомия: черная и белая. Обе
птицы в этой балладе, видимо, небольшого размера, одна из них (черная) -певчая. Для поэта, вероятно, не столь важны были орнитологические характеристики принадлежности своих персонажей к определенному виду. Как и в балладах двух калмыцких поэтов, в хониновской балладе пространственно-временные характеристики, не имея конкретной привязки к определенному локусу и топосу Калмыкии, тем не менее фокусируют действие в калмыцкой степи, подчеркивая, с одной стороны, тему родного края и фауны, с другой - тему других стран и регионов. Современный ракурс изображенных событий явлен технической деталью - лирический субъект (повествование ведется от первого лица), покинув кошару, едет в полдень степной дорогой на машине и становится свидетелем воздушного поединка двух птиц. Сравним в русском переводе: «Я шел дорогою степной. / Мне нужно было торопиться» [Хонинов 1977, 100]. Здесь так же, как и в балладах Бембеева и Нурова, прошлое и настоящее предстает в сопоставлении жизни героев, но уже в условиях прошедшей Великой Отечественной войны и мирного периода; эта разница обусловлена тем, что первые авторы по возрасту не были участниками той войны. Безымянный рассказчик вынужден остановить машину, наблюдая за боем и слыша крики птиц, летящих, словно стрелы из лука, в небе над его головой. Прием контраста показан в противопоставлении синего неба, солнечного дня, легкого ветерка смертельному поединку птиц. Желтая птица победила и покинула место боя, оставив поверженного противника на земле. Черная птица с раненым крылом, истекая кровью, пыталась взлететь, царапала землю когтями, но не смогла подняться. Свидетель схватки поднял птицу, которая как бы просила у человека одно крыло. Но тот бессилен исполнить ее просьбу, пытается напоить своей слюной, когда она просит: «Пи-и-ть!» [Хонинов 1977, 102]. Этот эпизод напомнил ему прошлое, когда на берегу Березины (белорусский гидроним) он тоже был ранен, и тогда благодаря заботе белорусской матери снова встал на ноги: «Березино Болын ковэднь / би иигж; шавтлав. / Белорус экин хэлэвртнь / батрж; Базр ишклэв» [Хоньна М. 1976, 25-26]. Это отсылка к реальному факту: спасение во время войны раненого младшего лейтенанта белорусской крестьянкой Прасковьей Андреевной Вилиткевич. Сравним в русском переводе: «Вот и меня могли убить, /Ия был опален войною. <.. .> Когда-то на Березине / И мне враги крыло подбили. / И белорусы на руках / Несли в свою родную хату <...> Был ярким солнцем залит плес, / Они неси меня под солнцем, / Как я потом ту птицу нес, / Что под моим поет оконцем» [Хонинов 1977, 103, 104]. Психологический параллелизм дан сопоставлением двух миров - люди и птицы - в позиции и оппозиции «свой» - «чужой»: враги - друзья, победитель - побежденный, сильный - слабый, раненый -здоровый, война - мир, зло - добро, тогда - сейчас. При этом «чужое» становится «своим»: калмыцкий поэт называл Беларусь своей второй родиной. Птица выжила, обзавелась потомством и прилетела к спасителю со своим семейством. Тем самым вознаграждением за добро становится возрождение птичьего семейства. Рассказчик благословляет птицу в до- рогу калмыцким благопожеланием: «Ардаснь хаалйинь йорэйод / алтн йерэл тальвув» [Хоньна М. 1976, 26]. Здесь автор использует народный обычай - пожелание счастливого пути, хотя прямо не вербализирует само благопожелание - «алтн йорэл» (калм. золотое благопожелание; эпитет, характеризующий ценностный смысл речи).
Как и Нейман, так и Николаев домысливают авторский текст, в этом случае вводя мотив страха: на войне у рассказчика, в мирное время у птицы: «Да, жизнь нам дарит чудеса! / Ия сказал любимой птахе: / - Вновь обрела ты небеса / И навсегда забудь о страхе. // Я тоже победил свой страх, / Изведал счастье соучастья / В еще невиданных боях / За человеческое счастье» [Хонинов 1977, 103, 104]. Сравним в оригинале: «Эмтэ юмнд цуИараднь / амрг, иньг кергтэ. / Ээх, муурх заамд / эклэ эдл ку что...» [Хоньна М. 1976, 26]. Смысловой перевод: «Всему живому на свете нужен друг. Во время долгого пути со страхами и преградами у друга есть сила, равная материнской силе», т.е. речь идет о философской доминанте жизненного существования, основанного на дружбе и помощи.
Вероятно, введением мотива страха - человека и птицы - переводчик, тоже участник Великой Отечественной войны, хотел придать эпизодам больший психологический импульс в дихотомии «героизм» - «страх». Сближая временные пласты прошлого и настоящего, мир людей и мир природы, Николаев завершает произведение сентенцией: «Мне даже кажется подчас, / Они меня спасли когда-то, / Чтобы и я кого-то спас / Как за добро добром в уплату» [Хонинов 1977, 104]. У автора же нет такого дидактизма. Он рисует в конце баллады мирную картину счастья и радости людей и птиц: «Ууд секэд Ьархлам / ургэд шовуд нисв. / Эдгсн тецгрин шо-вум / Эм деерм суув. // Урдой шовун дахулад / уурэн хашадм ясна. / Орун дууйан доцйдулад / эдн нанд дуулна» [Хоньна М. 1976, 27]. В смысловом переводе: «Когда, открыв дверь, вышел, то вспугнул прилетевших птиц. Вылеченная моя птица села мне на плечо. Вместе с птенцами она вьет теперь гнездо в моем дворе. Каждое утро они звонко поют мне песни». У автора мотив птичьей песни постулирует тему искусства, красоты, гармонии в мире людей и мире природы через оппозицию: воинственные крики сражающихся птиц и мирное пение.
Здесь тоже на 25 катренов оригинального текста приходится 30 неравномерных строф переводного варианта. В отличие от автора переводчик внес свои символические коррективы: в схватке побежденной оказалась белая птица, а не черная, которая затем сравнивается в этом контексте с фениксом: «как сказочный ее собрат, / Восставший некогда из пекла» [Хонинов 1977, 103]. Мотив чуда, характерный для классической баллады, осмыслен переводчиком как мотив добра, дружбы, милосердия и сострадания. Сравним у Е. Евтушенко «Балладу о ласточке», где пьяный крановщик спас птичье гнездо на листе шифера.
Таким образом, «постижение мира через ассоциации с животными имманентно общей человеческой культуре, ибо антропоморфизм, анимизм и тотетизм составляют универсальные формы древнего мировоззрения»

[Леонтьева 2020, 176]. Птицы в балладах калмыцких поэтов относятся к верхней пространственной сфере - локус неба, воздух, модус их передвижения - способность летать, в том числе на длительные расстояния. «У птиц выявляется оппозиция чистый (святой, добрый) - нечистый (дьявольский, злой), охватывающая большую часть всех птиц, в основном совпадающая с оппозицией безвредный - хищный» [Гура 1997, 527]. Журавль в бембеевской балладе, неопределенная птица в хониновской балладе относятся к чистым птицам, безвредным, дневным, у Хонинова она также певчая. Возможно, это жаворонок, один из символов калмыцкой степи. В бембеевском сюжете гендерные признаки персонажей не явные, в хони-новском - это женский персонаж, мать птичьего семейства, вторая птица не имеет отличительных гендерных примет. Вербальная передача птичьих криков представлена в первой балладе (курлы-курлы), в третьей акустические характеристики переданы более распространенной глагольной лексикой: «петь» (дуулх), «кричать» (доцйх). Календарные приметы, связанные с обеими птицами, - наступление весны. Визуальные образы птиц лишены подробных деталей, в основном переданы с помощью колористической палитры: серый журавль, желтая птица, черная птица, маршрута передвижения: перелет в другие страны на зимовку, способа гнездования. Люди (лирические субъекты и хулиган) в обеих балладах представляют мужское начало.
В балладе Нурова деление на мужских и женских персонажей более конкретное: доминирует мужской род - это люди (дед-чабан, внук, в контексте отец, воры), это собака Барлык, чужой скакун; среди других животных, домашних (собаки, овцы, лошади) и хищных (волки), гендерные признаки не варьируются. Видовые и визуальные характеристики животных персонажей прописаны типично: горящие глаза, текущие слюни, вой волков, курлыканье журавля, пение птицы, храбрость собаки.
Для произведений с персонажами из животного мира характерны обычно те или иные моралистические установки, особенно в сказках, апологах, баснях. По мнению современного исследователя, «мораль не явится чуждым привнесением: она заложена в природе повествования о животных и прощупывается уже на стадии мифа» [Костюхин 1987, 42]. Такие моралистические концовки привнесены в хониновскую балладу переводчиком А. Николаевым, в бембеевскую балладу - Д. Долинским: «Желанная, родимая земля, / У каждого одна она, родная!» [Бембеев 1974, 15], в нуровскую балладу - Ю. Нейман: «Балтык, ты заслужил покой» [Нуров 1981,95].
Из трех рассмотренных произведений у Бембеева и Нурова балладный жанр заявлен изначально в подзаголовке или в заглавии, у Хонинова жанровая атрибуция уточнена переводчиком. Все три произведения в сюжетном плане являют психологический параллелизм мира людей и мира животных, где дихотомия «свой» - «чужой» имеет амбивалентный характер, а «свой» и «чужой» могут меняться местами, проецируя авторские аксиологические и нравственно-моральные координаты поведения персонажей.
Образные характеристики представителей животного мира соответствуют народному мироощущению в традициях национального фольклора, верований и обычаев, передают культуру, быт кочевников, современников поэтов. Лирические субъекты в балладах по своей позиции сближены с авторской, в хониновской балладе имеется автобиографический вектор. Возрастная дифференция персонажей различна: поскольку временной вектор в балладах Нурова и Хонинова характеризуется прошлым и настоящим, то и лирические субъекты переходят из детства и юности во взрослую фазу, остальные персонажи (дед и отец) относятся к пожилому и среднему возрасту. В бембеевской балладе человек («хулиган») не выделен по возрастному признаку. Собака Балтык в балладе Нурова дана в двух возрастных парадигмах - в зрелости и старости.
Калмыцкие поэты сохраняют в своих текстах традицию калмыцкого стихосложения (анафора разных видов, аллитерация, редиф, ослабленная рифмовка), в то же время ориентированы на структурирование произведений разными строфами, в том числе катренами-четверостишиями. В русских переводах трех изученных баллад эта национальная версификация не соблюдается.
Будучи заимствованным жанром, калмыцкая литературная баллада прошлого столетия вбирает в себя опыт русской советской баллады, преимущественно героического, политического типа. Незначительная часть баллад адресована миру животных, обитателей степного края. Зоопоэтика [Сид 2013] анималистической баллады трех поэтов ближе к рассказу в стихах, она раскрывает образы животных в конфликтных ситуациях, передает те или иные смыслы стихий и символику птиц и животных выразительными средствами (сравнение, метафора, эпитет, звукоподражание, движение, именование).
Литературный бестиарий в калмыцкой балладе указанных авторов не включает вымышленных, мифологических персонажей животного мира, поскольку фабула базируется на бытовой почве, отражая повседневность героев.
У калмыцких поэтов отсутствуют баллады пародийного плана, любовной тематики, баллады-романсы, модернистской и постмодернистской, сатирической и юмористической направленности. Возможно, периферийное положение литературной баллады в калмыцкой поэзии повлияло на ее историю и в новом веке. В русскоязычной калмыцкой поэзии литературная баллада также малочисленна, но разнообразней по форме и содержанию.
Список литературы Дихотомия "свой" - "чужой" в анималистической калмыцкой балладе
- Басангова (Борджанова) Т.Г. Животные в калмыцком фольклоре. Элиста: КалмГУ, 2019.
- Басангова Т.Г. Журавль в фольклорной традиции калмыков // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 2. С. 212217.
- Бембеев Т. О подрезанных крыльях // Бембеев Т.О. Пульс: стихи и поэмы / пер. с калм. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1974. С. 13-15.
- Бембин Т. Живрнь тээрцхэ тоИрун // Хальмг Yнн. 1966. Майин 4. Х. 3.
- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Ин-дрик, 1997.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977.
- Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1987.
- Леонтьева А.Ю. Особенности фелинистической образности Г.В. Иванова: между анималистикой и бестиарием // Инновационные научные исследования: мировой опыт и национальные приоритеты / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: Наука и просвещение, 2020. С. 175-191.
- Магомедова Д.М. Баллада // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 26-27.
- Манджикова Б.Б. Хальмг орс терминологическ толь (урИмлмудын болн мал-адусна нерэдлhн) = Калмыцко-русский терминологический словарь (флора и фауна). Элиста: Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН, 2007.
- Мифы, легенды и предания калмыков / подготовка текстов, пер., вступит. ст., примеч., коммент., указатели, словарь, сверка калмыцких текстов Т.Г. Басан-говой, Т.А. Михалевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, Е.Н. Кузьмина, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев; Калмыцкий научный центр РАН. М.: Наука; Восточная литература, 2017. (Свод калмыцкого фольклора).
- Монраев М.У О криках и звуках, издаваемых животными и птицами в калмыцком языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 10. Ч. 2. С. 112-115.
- Нуров В. Баллада о псе Балтыке // Нуров В.Д. Солнечный колодец: стихи / пер. с калм. Ю. Нейман. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1981. С. 91-95.
- Нуура В. Баргин туск баллад // Нуура В. ^ирhлин Yндсн: шYлгYД. Элст, 1974. Х. 8-11.
- Нуура В. Баргин укл // Теегин герл. 1992. № 7. Х. 25.
- Пюрбеев Г.Ц. Эпос «Джангар»: культура и язык = ЖдцИр дуулвр: сойл болн келн. 2-е изд., перераб. Элиста: Джангар, 2015.
- Сид И. Тотем в современной русской литературе. Зоопоэтика текстов, зоо-софия сообществ (постановка проблемы) // Бестиарий и стихии. М.: 1пйМа, 2013. С. 55-67.
- (а) Ханинова Р.М. Баллада в калмыцкой поэзии ХХ века (Ц. Леджинов, С. Байдыев) // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2020. № 3. С. 264277.
- (а) Ханинова Р.М. Баллада о войне в калмыцкой поэзии ХХ в. // Новый филологический вестник. 2019. № 1 (48). С. 194-206.
- (Ь) Ханинова Р.М. Калмыцкая баллада ХХ века: психологический аспект // Рациональное и иррациональное в литературе и фольклоре. Волгоград: Фортесс, 2019. С. 227-237.
- (b) Ханинова P.M. Осмысление дороги в аспекте диспозиции «свой» и «чужой» (на материале калмыцкой политической баллады ХХ века) // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2020. № 4. С. 332-344.
- (с) Ханинова P.M. Поэтика баллады в калмыцкой поэзии ХХ в. (Д. Кугуль-тинов, М. Хонинов) // Oriental Studies. 2019. № 2. С. 320-333.
- Ханинова P.M. Поэтика вещи в русской прозе ХХ века. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2014.
- Хонинов М. О птице, раненной в бою // Хонинов М.В. Подкова: стихи и поэма / пер. с калм. М., 1977. С. 100-104.
- Хонинов М. Степная баллада // Хонинов М.В. Все начинается с дороги: стихи и поэма / пер. с калм. М.: Современник, 1972. С. 26-30.
- Хоньна М. Ом зал^н шовум дуулна // Хоньна М. Теегин шовун тоhрун: шYлгYД болн поэмс. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1976. Х. 23-27.